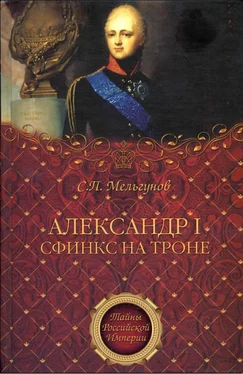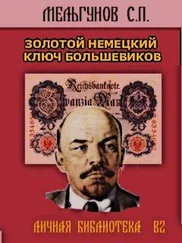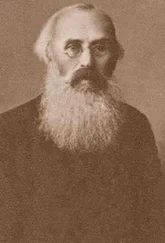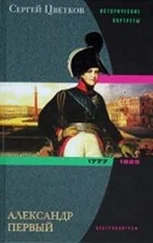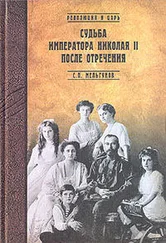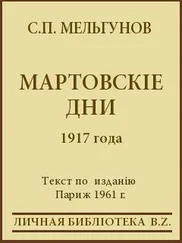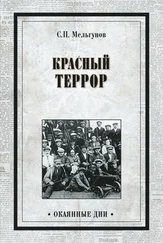Понятно, что при таких условиях ни один более или менее крупный человек не мог быть долгое время в фаворе у Александра. Понятно, почему русские министры приобрели, как отмечает Меттерних в одном из писем к Лебцельтерну, плохую привычку своим сообщениям придавать краску, которая, как им кажется, будет приятна их венценосцу.
И вся эта политика Александра основывалась исключительно на самолюбии и на жажде личной славы.
Этими именно чертами его характера можно объяснить много загадочных противоречий в деятельности Александра. Искание популярности, желание играть мировую роль, пожалуй, и были главными стимулами, направляющими деятельность Александра. Как человек без определенного миросозерцания, без определенных руководящих идей, он неизбежно должен был бросаться из стороны в сторону, улавливать настроения, взвешивать силу их в тот или иной момент и, конечно, в конце концов подлаживаться под них. Отсюда неизбежные уколы самолюбия, раздражение, сознание утрачиваемой популярности. Быть может, такова неизбежная судьба всякого игрока — и особенно в области политики. Доведенная даже до артистического совершенства, подобная игра должна была привести к отрицательным результатам. Таков и был конец царствования Александра I, когда, в сущности, недовольство охватывало и реакционные и либеральные круги русского общества. Реформаторские порывы, парализованные своей половинчатостью, не удовлетворяли и тех, на кого мог опереться Александр и у кого он снискал популярность на первых порах, не удовлетворили они и тех, кто свято блюл заветы старины. Глубоко ошиблась Екатерина в своем предвидении: «Я оставлю России дар бесценный — Россия будет счастлива под Александром».
А между тем мы знаем, что Александр начал царствовать при самых благоприятных ауспициях. Его воцарение было встречено дворянством с восторгом. «После бури, бури преужасной, днесь настал нам день прекрасный», — распевала гвардия. Русский посол в Италии Бороздин, узнав о смерти Павла, дал бал.
«Самому Тациту, — подтверждает Булгарин, — недостало бы красок для изображения той живой картины общего восторга, который овладел сердцами при вести о воцарении Александра». «Наш ангел», — писал о нем упомянутый Муравьев-Апостол; Александр, «хотя и рожден на троне, носит в сердце все чувства, составляющие сущность гражданина и друга человечества», — продолжает восхвалять в своей переписке 1803 г. неудержимый дифирамбист молодого императора его прежний воспитатель Лагарп, по своей наивности не понимавший той прямой отставки, которую он к этому времени получил.
Невозможно, конечно, сказать, каковы были задушевные мысли самого Александра. Вряд ли, однако, Александр был так наивен, чтобы думать, что «достаточно пожелать добра, чтобы осчастливить людей», и что благоденствие само водворится без всяких усилий с его стороны. Быть может, в его голове и роились грандиозные планы реформы «безобразного здания империи», убаюкивающие его самолюбие. Его туманные мечтания давали повод говорить о его величии, о молодом монархе, который горит желанием «улучшить положение человечества»; предрекать, что Александр вскоре получит в Европе преобладающее влияние; намекать на то, что это крайне нежелательно «для некоторых равных Александру по могуществу, но бесконечно ниже его стоящих по мудрости и доброте», т.е. намекать, что Александр может явиться достойным соперником великого Наполеона, как это делал Стон в письме к Пристлею. Наполеон нес с собой деспотизм. «Ныне это — знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории, — писал Александр в 1802 г. по поводу объявления Наполеона пожизненным консулом. — Завеса упала; он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный… доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества». Именно таким бескорыстным деятелем должен был стать сам Александр, с тяжелым сердцем отказавшийся от добровольного изгнания, от мечтаний блаженствовать в сельском уединении, променявший скромную ферму на порфиру и корону только для того, чтобы посвятить себя «задаче даровать стране свободу».
Нельзя забывать и того, что этот либерализм диктовался условиями времени. Русское дворянство, отнюдь не склонное к мечтательным идиллиям о человеческом благе, еще менее чувствовало симпатии после кошмарного царствования Павла к проявлению самодержавного деспотизма; в нем достаточно сильны были олигархические тенденции. Обещание царствовать по законам Екатерины означало водружение старого знамени — дворянской монархии. И первые либеральные меры Александра восторгом встречались безотносительно к их либерализму—это была оппозиция прошедшему «царствованию ужаса».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу