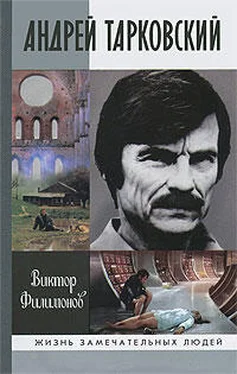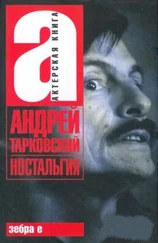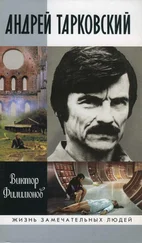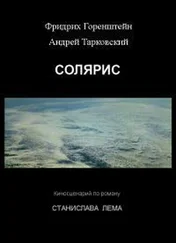ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВ. АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ: СНЫ И ЯВЬ О ДОМЕ.
(Памяти Леонида Константиновича Козлова)
…Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду
чувствовать себя повелителем бесконечности.
Если бы только не мои дурные сны!
У. Шекспир. Гамлет
Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребенок идет босиком по тропинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несет он зарю…
Арсений Тарковский. Юрьевец, 1933
Начало дневников под скорбным названием «Мартиролог» совпало с делом тем не менее веселым — обустройством собственного дома, купленного весной 1970 года. Причем, как и хотелось, не в городе — городские квартиры ему никогда не казались уютными, — а в деревне Мясное Рязанской области. Вот настоящая «крепость»! Не даст начальство работать — отсидится здесь. Построит каменный дом. Разведет живность, посадит огород. Вот только газик нужно приобрести: все-таки до Москвы 300 километров… Да денег надо бы подзаработать, чтобы завершить все к осени…
Чьи это мечты и планы? Гениального режиссера-мистика? Апостола оригинального учения, проповедующего о «личном Апокалипсисе» в Сент-Джеймском соборе Лондона летом 1984 года? Или человека с крепким крестьянским прошлым, хозяина, уверенно возводящего фундамент своего материально укрепленного будущего?
Правда, дом и хозяйство пока лишь образ не столько материального процветания, сколько воображаемой защиты от тех, кто посягает на его творческую свободу. Оберег.
Созидая деревенскую обитель, он, может быть, воскрешал пору, когда мать, Мария Ивановна Вишнякова-Тарковская, с ритуальным постоянством каждое лето отправлялась с детьми в деревню, убежденная в целительном действии природы на их тело и дух. Деревенская жизнь осела в памяти сына как образ охранительно-защитительных сил матери, чьей энергией мечталось укрепить и собственное жилище. Странное, почти сказочное пребывание внутри природы навсегда осталось в нем скорее грезой, нежели материально осязаемым существованием.
Переселяясь на лоно природы, неполное семейство (отец ушел в 1937 году) — мать с двумя детьми, мальчиком Андреем и девочкой Мариной, — покидало не благоустроенное, обжитое поколениями гнездо, а московскую коммуналку, категорически отрицающую семейный уют частного человека. Поэтому, наверное, в исповедальном своем фильме «Зеркало» режиссер Тарковский дотошно воспроизведет в качестве дома детства не коммунальную нору, а именно хуторское жилище семьи, каким оно было в 1935—1936 годах. Утопическая попытка вернуться в природу-деревню как в материнское лоно, когда хоть и нищенски убогой была жизнь, но в ней сохранялось чувство безопасности, обеспеченное неусыпным бдением, кажется, так и неразгаданной сыном женщины…
Дневник Тарковского неуклонно регистрирует усилия по упрочению семейного гнезда: сначала на родине, затем за ее пределами. Усилия зримо материальны как в деле добывания денежных средств, так и в смысле личных трудов. С начала 1970-х это магистральный сюжет в жизни Андрея Арсеньевича Тарковского: этический поступок и духовно-материальное событие, формирующие облик биографии художника.
Но, с другой стороны, герой его кинематографа (второе «я» творца) так же упорно и последовательно порывает с земным обиталищем, в конце концов вполне сознательно предавая его огню в последнем фильме «Жертвоприношение». Разве кинематограф Тарковского не поступок, в свою очередь формировавший его биографию? Только вот такой поступок выглядит отрицанием естественной потребности созидать материальную опору и защиту и для себя, и для потомства.
В творчестве художника утверждается подвиг жертвенных страданий и испытаний во имя духовного спасения. В этом контексте и дневник восходит к жанру средневековой церковной литературы о христианских мучениках, одновременно пробуждая в памяти герценовский мартиролог, составленный из мученических судеб русских поэтов первой половины XIX века.
По мере творческого роста Тарковский все более чуждается игр «свободного искусства». Напротив, он постулирует творчество как «вынужденный акт», продиктованный тяжелым и даже гнетущим долгом. Режиссер недоумевал, как художник может быть счастлив в процессе своего творчества. Человек вообще, по убеждению Андрея Арсеньевича, живет вовсе не для того, чтобы быть счастливым. Есть вещи, провозглашал он, гораздо более важные, нежели счастье. Творчество превращается в религиозное служение в подчеркнуто отшельническом аскетизме.
Читать дальше