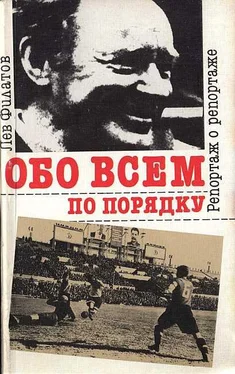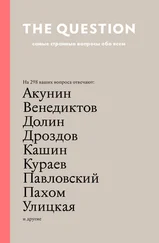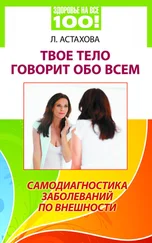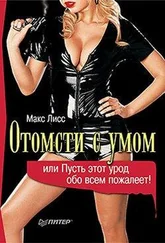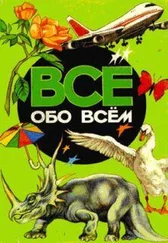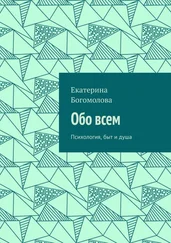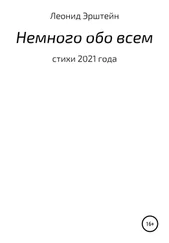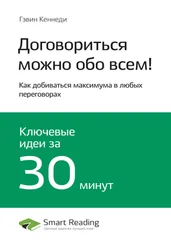Эх, киевское «Динамо»! Какая была великолепная возможность у лучшей нашей команды — поднять, возвысить голос против всего того, что ныне мы называем «застойными явлениями»! Не подняла, не возвысила, пошла по течению, в общей струе. И заплатила за это, сделавшись на целое десятилетие, до 1985 года, командой как все, у которой разве что с очками и местами дела чуть благополучнее. А в розыгрышах европейских кубков, в чемпионатах мира и Европы (в сборной по-прежнему киевские динамовцы в большинстве) — успехов никаких.
Скорее всего это наивно, но я рассуждал так: «Вот бы Валерию Лобановскому, самому авторитетному, властителю умов, взять и заявить во всеуслышание, печатно или на конференции тренеров: «Остановим, дорогие коллеги, игры по сговору, хватит срамиться!», и будет положен предел эпидемии, некуда будет деваться жулью, все мы облегченно вздохнем, и футбол пойдет на поправку». Я мечтал о таком выступлении.
В те годы меня как репортера в Киев не тянуло. Во главе с киевским «Динамо» наш футбол тянул лямку на нижних этажах.
Вспышки были — прорывы «Спартака», минского «Динамо», «Днепра», «Зенита» в чемпионатах страны, выигрыш Кубка кубков тбилисским «Динамо». Киевское «Динамо» не позволило себе опуститься, сдать позиции, его авторитет на наших полях оставался высоким. Однако с игры киевского «Динамо», с его турнирной стратегии мерок уже не снимали.
Настал год 1985-й.
Перед этим — два сезона «в тылу», 7-е и 10-е места в чемпионате. Все настолько свыклись с заглавной ролью киевского «Динамо», что его не хоронили, зная, что не тот это клуб, чтобы ни с того ни с сего раствориться, сгинуть.
В 1983—1984 годах в составе киевлян стали появляться эпизодически П. Яковенко, О. Кузнецов, В. Рац, А. Михайличенко. Фамилии ничего не говорили, обычная проба молодых, которая, как известно, может окончиться и пшиком: зажглась спичка и погасла.
Весной 1985-го появились неведомый И. Яремчук и быстрый форвард И. Беланов из «Черноморца».
И тут свершилось: возникла средняя линия, чуть сзади О. Кузнецов — передний центральный защитник, потом тройка — В. Рац, П. Яковенко, И. Яремчук, чуть впереди — А. Заваров. Команда ожила, помолодела, помчалась.
Все это не такая уж новость, когда удачно вводится группа способных молодых игроков. Клубы то и дело взбадриваются подобным способом. Иногда ненадолго, иногда на несколько сезонов.
Но получилось совсем иное: команда заиграла. Позже В. Лобановский настаивал, что никакого переворота в игре не было, команда будто бы все годы придерживалась одних и тех же принципов, осталась верна им и в 1985 — 1986 годах. Не берусь судить о принципах тренировочной работы, режима, наоборот, думаю, что эти принципы соблюдались, развивались и торжествовали. И конечно на них все и опиралось. Но они невидимы, о них знают немногие—тренеры и игроки. На виду — игра. А у нее тоже свои принципы, о которых—тут уж никуда не денешься — дано судить, мно- гим, если не всем. Собственно, ради этого мирского суда все и затевается, ради него и идет невидимая работа.
Мне не кажется, да и примеров не могу назвать, чтобы журналист был с тренерами наравне в их секретной, закулисной репетиционной деятельности. И тренеры из тех, которые любили держать контакт с журналистами (Аркадьев, Маслов, Якушин, Качалин, Ахалкаци, Дангулов, Гуляев, Дубинин, Глебов, Николаев, Севидов), в самых долгих и откровенных разговорах не касались производственной стороны своей профессии. Пусть наши «семинары» и не имели такого названия, но я бы им его дал — «Как мы выглядим?». Так же естественно было в ответ слышать их отзывы о наших печатных высказываниях, тех, что у всех на виду. И мы не делились с ними, зная, что это не спасет, секретами нашего ремесла, не оправдывались графиками выпуска газет, тем, что некогда подумать над фразой, и тем даже, что дежурный редактор вычеркнул «самую важную» строчку. Нас не убедили бы их оправдания, а их — наши. И слово не воробей, и скверную игру не воротишь.
Хорошая игра, пусть за ней скрыт многопудовый и многокилометровый труд, является на белый свет в урочные полтора часа в обличии общепонятном. Если же то, что нам предложено, имеет только чисто футбольное, специальное воплощение, то обычно это значит, что мы видим футбол среднего достоинства, разученный, достаточный, «на тройку».
Способность демонстрировать не одну технику и тактику, а и что-то иное, — тут и начало классного футбола. Что же именно?
Это прежде всего чувство собственного достоинства. Его мы ощущаем у команды, которая имеет собственный ясный план, верна ему, ведет игру самостоятельно, не сникает перед противником, не подстраивается к нему с угодливостью подчиненного, не теряет своего лица в любых условиях — и на родном стадионе, и на далеком.
Читать дальше