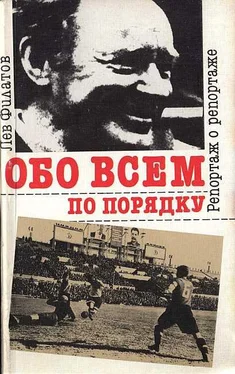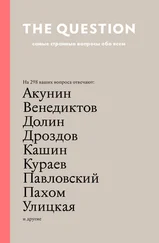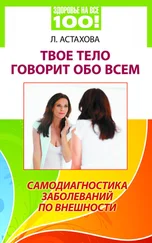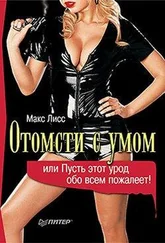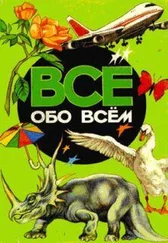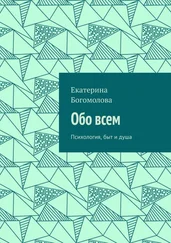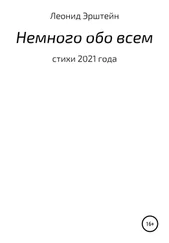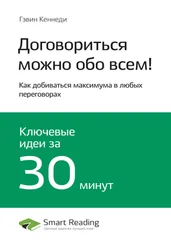По прошествии многих лет, когда мы, однополчане, собрались вместе в ресторане «Россия» отметить двадцатилетие Победы, один из троих, Перельман, человек давно уже снова штатский, пожилой, обнял меня за плечи: «Читаю тебя в газетах. Вот видишь!». Значит, держал в уме...
...Мы понятия не имели о кулисах футбола. Он начинался для нас с появления в прямоугольном колодце тоннеля игроков, которых мы узнавали мгновенно по макушкам, лбам и плечам, и заканчивался их сходом на нет в то же заповедное подземелье. Мы ничего не смыслили в тактике и стратегии, если бы кто-то в нашем кругу вздумал козырнуть специальной терминологией, его подняли бы на смех.
Мы видели на поле людей, и нас занимало, как они себя проявляют все вместе и каждый порознь, как стоят за общее дело. Если что-то происходило невпопад, мы воспринимали это не как тактическую или техническую ошибку, а как несуразицу, человеческую слабость, драматический поворот. Мы не сомневались, что форварды, хавбеки, беки и голкиперы игрой живут, что поле и мяч не больше, чем форма, условность, как книжные страницы, театральные подмостки и декорации, живут для того, чтобы особым, футбольным образом посвятить нас в какую-нибудь жизненную ситуацию, которая что-то откроет.
Компания у нас сложилась спартаковская. Выбор безотчетен, необъясним, но уж коли он сделан, доказательств правоты сколько угодно. Нас устраивало, что «Спартак» не представлял никого, кроме самого себя, с ним любой мог просто так, за здорово живешь, стать заодно, объявить его своим. «Динамо», ЦДКА, «Металлург», «Торпедо» кому-то принадлежали, это обязывало и ограничивало, вольность избрания лагеря исчезала. Слышали про промкооперацию, стоявшую за «Спартаком», но так как не знали толком, с чем ее едят, то в расчет не брали. Один из нас, Виктор Беркович, был за «Динамо». Мы прощали его, как заблудшего, жалели, да и некоторый интерес в этом был: отводили душу в подтрунивании. А он, человек благородный, с обостренным чувством товарищества, по-моему, втайне страдал, что вынужден быть в компании голубой вороной. Но тут уж ничего не поделаешь.
Футбол для нас был как один матч: «Динамо» — «Спартак». Шесть чемпионатов—и по три выиграла та и другая команда. Могли подставить ножку киевляне, тбилисцы, ленинградцы, сталинградский «Трактор», «Металлург», «Торпедо», «Стахановец», но это было не смертельно, огорчало ненадолго. Занимало одно: как «Динамо», где «Динамо», что «Спартак»? Если у динамовцев плохо шли дела, как в 1938—1939 годах, то не выиграть чемпионат «Спартаку» было позорно. А их встречи лицом к лицу шли по высшему счету. Как видно, сами динамовцы и спартаковцы были того же мнения: десять игр (включая неоконченный чемпионат 1941 года) — по две победы и шесть ничьих. Так что и не рассудишь, все поровну, спорь не спорь.
Впрочем, до арифметических доказательств мы не опускались: низкая материя. Как и до грубости, бранных слов. Было это не в правилах нашей компании: поймали бы на примитиве — высмеяли. Не вспоминается, чтобы и на стадионе был в ходу оскорбительный лексикон. Это сейчас всюду выведено: «Спартак» — «мясо», «Динамо» — «мусор», ЦСКА — «кони» — изобретения заборной фантазии.
Противопоставление «Динамо» и «Спартака» велось нами по впечатлению, зависело от манеры команд себя держать, от их поведения. Это было увлекательно, требовались наблюдательность, догадка, воображение. В конечном счете выходило, что «Динамо» — это продуманность, вышколенность, невозмутимость, беспощадность, отточенное, но и холодное умение, тогда как «Спартак» — открытый темперамент, безудержный штурм под настроение и тяжкие срывы, когда настроения нет, непредусмотренность поступков, игра в разные дни то безукоризненная, то растрепанная. Коль скоро и та и другая команда умела добиваться своего, сравнение не ставило крест на одной из них; наоборот, тем и жил постоянный интерес, что динамовский лед гасил спартаковское пламя, а в другой раз пламя растапливало лед.
Из нашей приверженности к спартаковскому лагерю напрасно составлять представление о нас самих.
Мы были разными. Кому-то, как я вижу, полагалось бы испытывать симпатию к строгому динамовскому мастерству, созвучному, близкому их натуре. Но вопреки созвучию, не желая его признавать, они тянулись к спартаковской непредсказуемой одушевленности, видя в ней привлекательность, недоступную для них самих. Может быть, чувствовали, что этого начала они лишены, а хорошо бы его иметь, так пусть по крайней мере окружающим кажется, что они его имеют.
Читать дальше