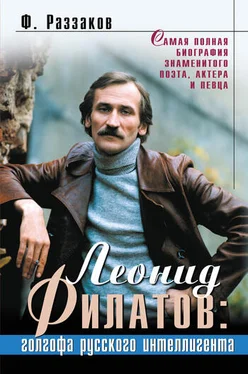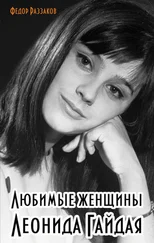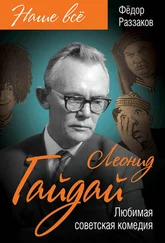Как Вы нас обрадовали своей весточкой!»
Как выяснится вскоре, все эти благие намерения окажутся пшиком. Демидова пишет, что мечтает о возрождении «Таганки» на другом витке: с мудростью, битостью и пониманием, хотя многим трезвомыслящим людям (подчеркиваю, трезвомыслящим) уже тогда было ясно, что впереди страну ждут мрачные времена. Это будут времена именно без мудрости и понимания.
Но вернемся в декабрь 86-го.
Отправив свое послание Любимову через все того же Альфреда Шнитке, таганковцы (137 человек) решили писать новое письмо – на этот раз в Верховный Совет СССР, чтобы там рассмотрели вопрос о возвращении Юрию Любимову советского гражданства. Когда про инициативу узнал Эфрос, он практически сразу согласился его подписать. Хотя прекрасно понимал, чем это грозит: возвращением Любимова в «Таганку». Правда, некоторые актеры его успокаивали: мол, будем работать на двух сценах – Любимов на Старой, а вы – на Новой. Но Эфрос прекрасно отдавал себе отчет, что это будет за сотрудничество, памятуя о событиях 1975 года, связанных со спектаклем «Вишневый сад». К тому же и сам Любимов не мыслил подобного совместного существования: как он заявил в интервью газете «Новое русское слово»: «Я хочу работать на старой сцене, но я не желаю видеться с господином Эфросом и вступать с ним в какие-либо контакты». Короче, настроение у Эфроса в те дни было не самым лучшим. Но он держал свое слово: ведь он приходил в этот театр исключительно с тем, чтобы сохранить его до возвращения прежнего руководителя. В том «письме 137-и» Эфрос написал: «Присоединяюсь к просьбе учеников Ю. Любимова помочь ему вернуться, если он сам того желает. А. Эфрос».
К слову, и многие актеры «Таганки» не мыслили себе ситуацию, когда рядом с их Учителем будет работать Эфрос. И они продолжают делать все, чтобы тот чувствовал себя неуютно в их театре. О проколотых шинах и разрезанной дубленке уже говорилось. Но недоброжелатели Эфроса на этом не успокоились: они подпирали дверь его квартиры лестницей и писали записки с угрозами, которые подкладывали к нему в кабинет либо оставляли на ветровом стекле его автомобиля. А еще они… насылали на него порчу, обкалывая ту же самую дверь его квартиры иголками, дабы призвать смерть на человека, живущего за этой дверью. Вообще, подобные оккультистские «штучки» были в большом ходу у некоторых актеров «Таганки». Алла Демидова однажды поведает историю о том, как одна актриса, ее партнерша по спектаклю по пьесе Т. Уильямса, которая по сюжету должна была вылить ей в ухо якобы отравленную воду из бокала, сделала это в буквальном смысле: согласно книге черной магии, она раздобыла воду, которой омывали труп человека (!), и вылила ее на партнершу по сцене. А все потому, что люто ненавидела Демидову.
Между тем для Филатова год заканчивался вполне благополучно. В декабреон играл в «Современнике» и продолжал сниматься в «Загоне» и «Забытой мелодии для флейты». В последнем фильме именно в те дни был отснят эпизод, который позднее многими будет поминаться недобрым словом. Речь идет о сцене, где героя Филатова настигает клиническая смерть и он попадает в знаменитый коридор – переход между Этим миром и Потусторонним. Не знаю, как в зарубежном кинематографе, но в советском это был первый эпизод такого рода – раньше ничего подобного не снимали. Длится он почти пять минут и производит мрачное впечатление: герой Филатова медленно идет по этому коридору и встречает умерших людей, которые, как и он, готовятся переместиться на Тот свет. Кроме этого, он встречает и своих родителей, которые умерли уже давно.
Как будет потом вспоминать сам Филатов, сниматься в этом эпизоде он согласился не раздумывая, не держа в уме никаких предрассудков. Для него это была вполне рутинная работа, тем более что играть в кино смерть ему приходилось уже неоднократно. Достаточно сказать, что из тех 19 фильмов, в которых он успел до этого момента сняться, его герои умирали (а вернее, погибали насильственной смертью) в пяти картинах. Так что опыт в такого рода делах у Филатова имелся. Однако было единственное «но»: во «Флейте» героя, которого играл Филатов, звали… Леонидом и первые три буквы фамилии совпадали с его собственной – Филимонов.
Вспоминает Л. Филатов: «Я снимался более чем в тридцати фильмах, и во многих из них моих героев либо убивали, либо они умирали сами. Однако после фильма Рязанова и последующих событий, связанных с моим нездоровьем, многие знакомые и друзья действительно усматривали в этом мистику. Но я такой связи не вижу… Хотя, как знать! Ведь Ахматова же неспроста писала, что нельзя вызывать на себя Смерть, провоцировать… Когда снимали эпизод с чистилищем, я уже был верующим: крестился в 33 года вполне сознательно. Но во время съемок не было ощущения, что мы делаем что-то греховное, что это какое-то святотатство…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу