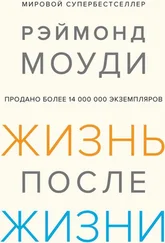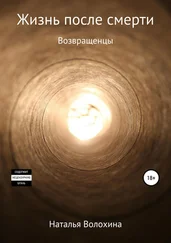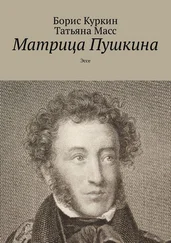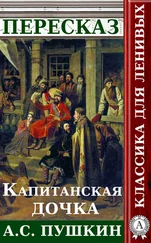…Спустя три четверти часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, выполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью…» {84} .
«…По смерти Пушкина надо было опечатать казенные бумаги; труп вынесли, и запечатали опустелую рабочую комнату Пушкина черным сургучом: красного, по словам камердинера, не нашлось» {85} , — отметил В. И. Даль.
Аркадий Осипович Россет, один из четырех братьев Александры Осиповны Смирновой, переносил Пушкина с дивана, на котором он умер, на стол. Вспоминая о том, он прибавил: «Как он был легок! Я держал его за икры, и мне припоминалось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою» {86} .
Пушкина вынесли «в ближнюю горницу», ту, в которой потом будет стоять его гроб, положили на стол. Наедине с бездыханным Поэтом остались лишь судебно-медицинский эксперт Иван Тимофеевич Спасский и хирург Владимир Иванович Даль. Они производили вскрытие тела. Искали пулю, сразившую Пушкина, и не нашли. Пушкин унес ее с собою в могилу…
В медицинском заключении Даль записал:
«…Пуля пробила общие покровы живота… правой стороны, потом шла, скользя, по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших розысканий…» {87} .
Нетрудно догадаться, что подразумевал Даль, когда писал: «Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших розысканий…» А точнее — кого подразумевал…
Жуковский сообщал отцу Пушкина: «…Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною, бедною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон» {88} .
Княгиня Вяземская и годы спустя не могла забыть страданий Натальи Николаевны в предсмертные дни ее мужа: «Конвульсии гибкой станом женщины были таковы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начинаясь обыкновенно в 11 часов вечера» {89} .
«По смерти Пушкина у жены его несколько дней не прекращались конвульсии, так что расшатались все зубы, кои были очень хороши и ровны» {90} , — свидетельствовала и Екатерина Алексеевна Долгорукова.
«Труд ухода за Пушкиным в его предсмертных страданиях разделяла с княгиней Вяземской другая княгиня, совсем на нее непохожая, некогда московская подруга Натальи Николаевны, Екатерина Алексеевна, рожденная Малиновская, супруга лейб-гусара князя Ростислава Алексеевича Долгорукова, женщина необыкновенного ума и многосторонней образованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым. <���…> Она слышала, как Пушкин, уже перед самою кончиною, говорил жене: „Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона“» {91} , — записал Петр Иванович Бартенев, хорошо знавший княгиню Долгорукову.
Муж Екатерины Алексеевны был сослуживцем среднего брата Натальи Николаевны, Ивана Гончарова. Пушкин достаточно часто с ними общался, давно и хорошо знал их. Теперь же, когда его не стало, подруга юности была рядом с несчастной вдовой.
Княгиня Долгорукова была дочерью директора Московского архива иностранных дел А. Ф. Малиновского, родной брат которого был первым директором Царскосельского лицея, а сын последнего, Иван Малиновский, был лицейским товарищем Пушкина.
Мать княгини Долгоруковой, Анна Петровна Малиновская, была на свадьбе поэта посаженой матерью со стороны невесты. Пушкин был хорошо знаком с этим семейством с раннего детства. Возможно, присутствие Долгоруковой напоминало ему в эти тяжелые предсмертные часы именно об этом: о золотой поре детства, об удивительном лицейском братстве — нерушимом, неповторимом.
Данзас вспоминал, что Пушкин признался ему: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать…»
О смерти своего лицейского друга они узнают не скоро. Лишь в конце февраля Иван Малиновский отзовется письмом, полным скорби, адресовав его на имя лицеиста Модеста Корфа. Только месяц спустя Малиновский узнает о январской трагедии, потому что он был за сотни верст от Петербурга, в Харьковской области, в селе Каменка. Иван Пущин был еще дальше — он был осужден по делу декабристов и сослан в Сибирь. На смерть Пушкина, которую он считал «народным горем», а самого Пушкина — «величайшим из поэтов», он откликнется удивительными, пронзающими душу воспоминаниями, но это будет годы спустя. Сама весть о гибели Пушкина явится для него «громовым ударом из безоблачного неба». Тому же Ивану Малиновскому Пущин напишет: «…Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если бы я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России…» {92} .
Читать дальше
![Татьяна Рожнова Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст] обложка книги](/books/221201/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol-cover.webp)
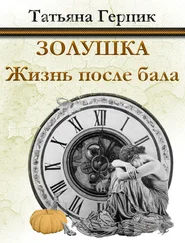


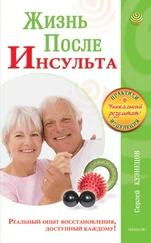
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/books/221198/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol-thumb.webp)