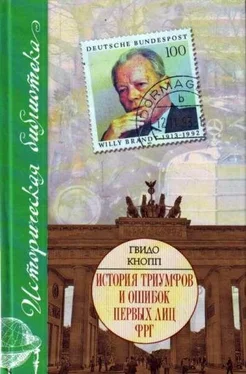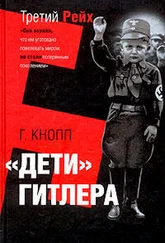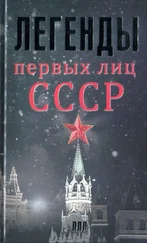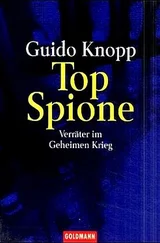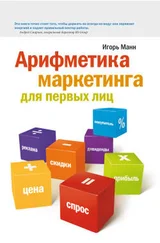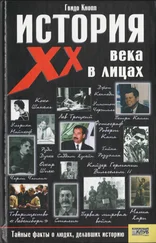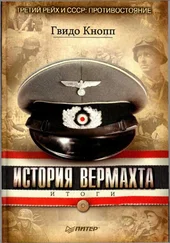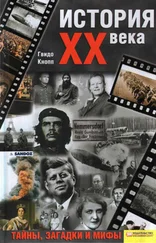При этом Эрхард был кем угодно, но только не националистом. Он имел свою собственную экономическую картину мира, он мыслил в категориях, которые лучше всего описать понятием «глобализация». Эрхард хотел достичь устранения границ и создания свободного товарообмена на как можно более широкой географически территории. Так, он мечтал создать «Атлантическое сообщество» Северной Америки и всей свободной Европы. Европейское экономическое сообщество, которое должно было образоваться после подписания договоров между Германией, государствами Бенилюкса, Италией и Францией, было для него, напротив, слишком маленьким. Но мнению Эрхарда, это сообщество внутри было слишком политически управляемым, а снаружи — чересчур перфекционистским. Из-за этого он сравнивал сообщество с бронированным автомобилем, у которого чрезмерно мощные тормоза, но недостаточно мощный двигатель, поэтому автомобиль слишком часто останавливался. Вместо этого сообщества по идее Эрхарда стоило бы создать объединенную Западную Европу. С 1957 года во многих немецких газетах можно было увидеть целый рекламный разворот с портретом федерального министра экономики и его формулой объединения Европы: «6+7+5=1». Шесть государств ЕЭС, семь государств конкурирующего сообщества ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли) и пять независимых государств — Греция. Турция, Исландия, Ирландия и Испания — должны были стать одним целым и образовать «Европу равноправных и свободных». «Европейская экономика, — писал Эрхард, — держится не на одном колесе и имеет не одну ось».
По всему своему характеру, воспитанию и фритредерскому образу мыслей Эрхард больше склонялся к политическим и экономическим идеям и принципам англо-саксонцев. По отношению к французам он был настроен скептически из-за их склонности к государственному регулированию экономики. Здесь он вступал в конфликт с канцлером Конрадом Аденауэром, который все яснее отдавал свое предпочтение немецко-французскому направлению во внешней политике. Рассерженный канцлер со злорадством пытался унизить идею Эрхарда: «Этот человек не умеет даже считать!»
Недоверие и нерасположение Аденауэра к Эрхарду росли. Министру экономики полностью недостает понимание внешнеполитической ситуации, так гласил уничижительный приговор канцлера. У Эрхарда наивная картина мира, а именно внешнеполитическую сноровку Аденауэр считал важнейшим качество кандидата на пост канцлера. Уже поэтому Эрхард никак не мог стать его преемником. «Кто-то может быть лучшим в мире министром экономики, но не обладать при этом достаточным пониманием политических вопросов», — говорил Аденауэр повсеместно, громко и внятно. Мол, Эрхард абсолютно не подходит на должность канцлера. Резюмировал он это на рейнском диалекте следующими словами: «Эрхард не сдюжит!» Кроме того, по словам Аденауэра, Эрхарду недоставало важнейшего таланта политика — любви к власти.
«Эрхарду, естественно, было ясно, что политика — это борьба за власть, что в этой борьбе не избежать жестокости, но он не всегда делал из этого понимания соответствующие выводы», — писал Карл Карстенс, бывший позже федеральным президентом и заместителем министра в ведомстве иностранных дел в период пребывания Эрхарда на посту канцлера. «Власть, как я ее вижу, всегда безотрадна, опасна, жестока, и, в конечном итоге, даже глупа, — говорил Эрхард во всеуслышание. — Многие полагают, что политик должен быть хорошим тактиком и действовать с помощью всевозможных уловок, а также должен быть искушен в любых интригах. Это не мой стиль». Герхард Штольтенберг, который в 1965 году стал в кабинете Эрхарда самым молодым министром, подтверждает это: «Эрхард обладал определенной верой в людей, которая в политике часто ведет к иллюзиям. Применять давление, плести интриги, поступить разок-другой коварно — этого Эрхард не умел и не хотел». Той небольшой толики макиавеллизма, необходимой каждому политику пли успеха и выживания, Эрхарду сильно не хватало. Нельзя вменять в вину Аденауэру подобного рода сомнения. Он энергично взялся за то, чтобы уничтожить Эрхарда, своего старого верного сотрудника и сегодняшнего соперника в борьбе за власть.
Открытая борьба за власть началась с наступлением так называемого президентского кризиса. В сентябре 1959 года истек срок президентства Теодора Хойса. Первый федеральный президент оказался настоящей находкой для республики. Он олицетворял собой лучшую часть буржуазной интеллигенции и пользовался повсеместной любовью народа, который прозвал его «папой Хойсом». Так что в Бонне даже подумывали о том, чтобы изменить конституцию и дать возможность Хойсу участвовать в выборах на третий срок.
Читать дальше