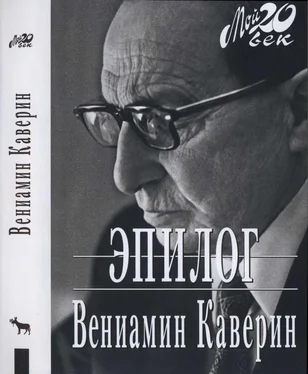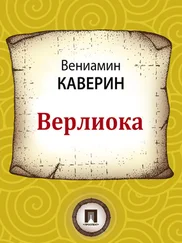К недавно вышедшему переводу книги «Перед восходом солнца» (США, первый полный текст. Перевод, примечания и послесловие Гарри Керна) приложена была биографическая канва.
И как глубокий вздох горечи, сочувствия, понимания, в строго научный комментарий врывается цитата из статьи К.Чуковского:
«Я попробовал говорить с ним о его сочинениях… Он только рукой махнул.
— Мои сочинения? — сказал он своим медлительным и ровным голосом. — Какие мои сочинения? Их уже давно не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения.
И перевел разговор на другое.
Я познакомил его с одним молодым литератором. Он печально посмотрел на юнца и сказал, цитируя себя самого:
— Литература — производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил».
Это были встречи, напоминавшие тюремные свидания. Так летом 1952 года я приехал из Москвы, позвонил к нему и зашел.
В ту пору еще не все было продано, но квартира выглядела уже разоренной, опустевшей. Он ласково поздоровался со мной, стал расспрашивать, что пишу, как живется, — в Москву я переехал сравнительно недавно.
— Удалось раздвинуть эту толпу? — спросил он с любопытством о московских литераторах.
Я ответил, что раздвигать почти не пришлось, помогла премия (за «Два капитана»).
Заговорили о переводе книги Лассила — он вяло, нехотя, я — с восторгом.
— Откуда ты так хорошо знаешь финнов? Разве ты был в Финляндии?
— Н-нет, — ответил он осторожно, как если бы не был вполне в этом уверен. — Но у меня в полку Деревенской Бедноты был финн. Тут, собственно, только один финн и нужен. Вообще-то я ведь не перевел, а пересказал. Они умеют смеяться над собой.
— Но как же Госиздат выпустил книгу без фамилии переводчика?
— Неужели? — медленно спросил он.
— Как они посмели?
— Посмели? — переспросил он. — Ты не представляешь себе моего положения.
И он рассказал о храбрости одного из руководителей театрального управления, который остановил свою машину, чтобы пожать ему руку.
— Впрочем, на улице было пустовато, — добавил он, усмехнувшись.
Я помнил, что Зощенко всегда как бы заслонялся от моей энергии, бодрости, моих почти всегда необоснованных надежд и предположений — вежливо, деликатно, но заслонялся. И все же я стал убеждать его, что надо действовать, действовать! Мой старший брат был арестован трижды, каждый раз я неустанно хлопотал за него — и ведь удалось же в конце концов добиться успеха!
Зощенко заметил мягко:
— Но это совсем другое…
Глядя на его спокойное, задумчивое лицо с погасшими глазами, я чувствовал, что он все видит и все понимает глубже и тоньше, чем я, что мне далеко до этого понимания. Всю жизнь он старался понять и объяснить себе (и другим) существо своей духовной жизни, останавливался перед его загадками, принимал решения, от которых был вынужден впоследствии отказываться. И мне подумалось, что и теперь, оказавшись в полном одиночестве, отвергнутый всеми, униженный, он потому и не был унижен, что полная душевная занятость, которая плыла где-то высоко над всем, что случилось с ним, осталась нетронутой, не-задетой.
Вдруг он рассказал почти весело, с добрым лицом, как вскоре после доклада Жданова к нему пришли три суворовца с одной девочкой шестнадцати-семнадцати лет — пришли, чтобы «отдать дань уважения» (так было сказано), — и он поспешил вежливо выпроводить их из квартиры.
— Хорошие мальчики, — тепло улыбнувшись, сказал он. — Фуражки держали по форме на локте левой руки. Я за них испугался.
Он недаром испугался за мальчиков. По приказу Главного штаба специальная комиссия приехала в Ленинград для разбора этого дела. Суворовцы были исключены из училища вопреки тому, что один из них, по отзывам преподавателей, обещал стать выдающимся стратегом…
Я предложил Михаилу Михайловичу пройтись по Невскому. Он удивился:
— Пожалуй. Я давно не выходил. А ты не боишься?
И с вдруг вспыхнувшим раздражением он рассказал, что Вера Федоровна Панова на днях пригласила его к себе, он встретился на лестнице со Слонимским, и тот, смутившись, поздоровался с ним, а потом, в передней, постарался объяснить Вере Федоровне и ее гостям, что они не пришли вместе, а встретились на лестнице случайно.
— Впрочем, однажды он уже перебежал на другую сторону улицы, увидев меня.
Я не удивился. Возможно, что Слонимский еще любил Михаила Михайловича. Среди «серапионов» они были самыми близкими друзьями.
Но Слонимский был уже «превращен». Он написал и послал Сталину свой роман об оппозиции, направленный против Бухарина, Зиновьева, Каменева, и пережил постыдную неудачу, связанную с этим романом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу