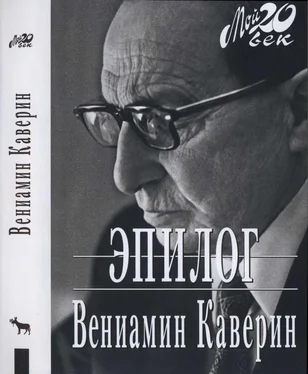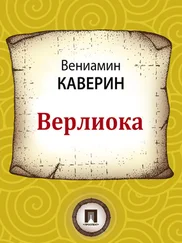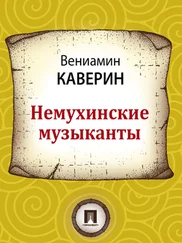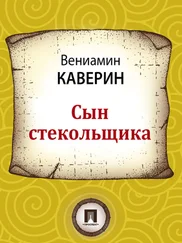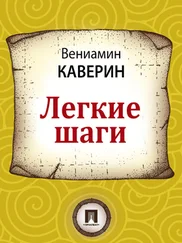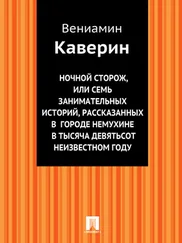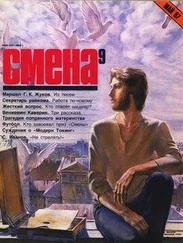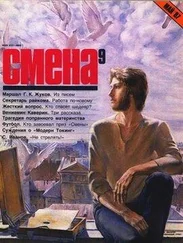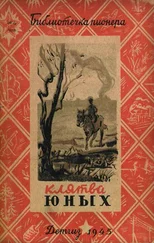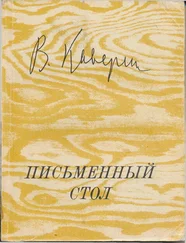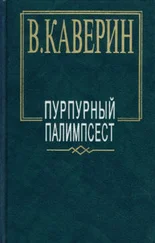Все герои книги как бы психологически вскрыты умным ланцетом автора. Это психологическая секция, обнаруживающая неведомые для них самих глубины. Это разрез социально-психологический, достигающий огромной глубины, которая, конечно, не может не затронуть нас, потому что все мы имеем отношение к тому, о чем пишет Солженицын, потому что мы все когда-нибудь окажемся перед лицом смерти.
В “Раковом корпусе” дело не только в том, что характеры написаны, а в том, что они устремлены к самопониманию. Таков Ефрем Поддуев, глубоко задумывающийся, читая Толстого, над смыслом собственной жизни: “Чем люди живы?” Человек, наконец почувствовавший болезнь как наказание за жизнь. Таков Костоглотов, в котором главное не только вера в жизнь, но небоязнь смерти. В нем выражена мысль великая и глубоко поучительная, потому что именно небоязнь смерти была порукой сохранения науки и искусства в годы террора, небоязнь смерти была порукой сохранения человеческого достоинства в самых тяжелых трагических обстоятельствах концлагерей и тюрем. Вот почему так трогательны и естественны все сцены любви в этом романе между Костоглотовым и Зоей. Он не боится смерти, он имеет право любить.
Тем же скальпелем неизбежной смерти вскрыт Русанов. Это первый раз, когда секция происходит в подлинном смысле этого слова, патологоанатомическая секция. Он, в сущности, не отличается от тех блатарей, о которых с таким отвращением рассказывает Костоглотов. Возможно, что Русанов написан слишком прямолинейно, об этом я тоже подумал, читая роман, и согласен в этом смысле с Александром Михайловичем. Но сила этой фигуры в том, что скальпель смерти вскрывает и страх разоблачения доносчика и убийцы. Он, конечно, очень сильное воплощение мертвого идола сталинизма. Может быть, он еще сильнее написан во сне, чем наяву, потому что вскрыты какие-то глубины его существа.
Так раскрывается Вадим Зацырко. Перед смертью он думает об относительности времени. Мысль глубокая, которая, мне кажется, должна быть развита во второй части романа.
Так и кончается первая часть: относительностью времени, ощущением жизни и уверенности новых глубоких перемен. Поэтому супруги Кадмины, которые всему радуются в ссылке, не случайно оказываются в конце первой части. О них слишком много написано… (Г.С.Березко: по-моему, мало!)
Об этом трудно говорить. Во всяком случае, эта глава важная и далеко не случайная. Не уровень благополучия, а отношение к жизни создает счастье людей.
Так же важно в первой части ощущение шагов истории, которое чувствует Костоглотов, вспоминая свою полусвободу, свой ссыльный мир.
Трудно судить о незаконченной книге, но следует ждать глубоко значительного произведения, беспощадно правдивого, полного той силы совести, которая всегда одушевляла русскую литературу. Он и заставляет переворачивать, не отрываясь, страницы повести, в которой, в сущности говоря, ничего не происходит, почти ничего. Вот почему и не хочется говорить о таких ее сторонах, как композиция. Читая ее, я вспомнил Л.Н.Толстого, который сказал, что в произведениях, рожденных жизнью, форма подчас приходит сама собой.
И еще раз — почему не напечатана до сих пор эта рукопись? Найдутся ли нравственные уроды, которые будут защищать бессмысленный террор Сталина или Берии или не захотят заметить в этой повести, в “Одном дне Ивана Денисовича”, как и в других повестях, всю полноту благородства, желания добра, мужества и все то, на чем была замешена революция и о чем сейчас говорится многими, ничего не выражающими словами? Солженицын и вся наша новая литература возвращают этим словам их подлинное значение. Вот почему я смело могу перебросить мост между литературой двадцатых и шестидесятых годов, не разделяя взгляда, что наша литература где-то оборвалась. Она продолжалась, хотя и в трудных обстоятельствах. И вот почему все желание замолчать Солженицына натыкается на неудачи.
Можно лишь позавидовать нравственной свободе Солженицына, его инстинктивному знанию того, что нужно людям, каждому из нас».
Славин в своей речи сказал, что «Раковый корпус» — «разрез общества через опухоли, и, в сущности, повесть — это некий поединок со смертью». Далее: «…сила образности в этой повести достигает огромной высоты». И далее: «Солженицын принадлежит к жестокой линии нашей литературы, трагической линии Достоевского».
За Славиным выступила 3.Кедрина, и многие, в том числе я, с подчеркнутым шумом покинули зал — сказалась дурная репутация, все были убеждены в отрицательном мнении — она выступала общественным обвинителем по делу Синявского и Даниэля. И ошиблись. Кедрина признала даже, что «вещь очень интересная», и выразила полную уверенность в том, «что она будет напечатана».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу