Тебя нет в Ялте? Ты в экспедиции по картине? Ты в море, в горах, в ущелье? Возможно, допускаю. Но ведь не схватили тебя посреди улицы, не втолкнули насильно в машину и крикнули шоферу: «Поезжай». Ты, несомненно, знала бы о подготовляемом отъезде группы из Ялты и могла бы мне телеграфировать: «Я уезжаю на несколько дней туда‑то, туда- то. Там нет почты и телеграфа. Не удивляйся, не тоскуй, и т. д. и т. д.». Так что же произошло такого, что я не могу предвидеть в своих мучительных догадках?»
Конечно, Исаак Иосифович, человек тонкий, почувствовал перемену в моих письмах, догадался, вероятно, что я, глупенькая, влюбилась.
* * *
«31 июля 1940 года.
Сейчас пять часов утра. Только что приехал с генеральной репетиции ансамбля…
А знаешь, что я тебе скажу, моя девочка? Твои два письма последние очень не похожи на все остальные, я даже начинаю думать, что ты с меньшей охотой мне пишешь, что ты меньше стала меня любить. Я не шучу. В строчках чувствуется какая‑то расслабленность и неохота, которых я раньше не замечал в твоих письмах. Что за штука такая? Я диву дивлюсь, как твоя поездка на теплоходе закончила какой‑то этап наших отношений и начала новый.
Неужели мои самые мрачные мысли оправдаются? А знаешь ли ты, что под влиянием большой боли само чувство может стать тусклым? Как‑то боль эту человек невольно переносит на виновника боли, вся тяжесть твоих мучений из- за меня ложится тяжким и печальным временем на солнце нашей любви. Это вполне возможно. Во всяком случае, все, что последовало после твоего возвращения в Ялту, лишено во многом той светлой и яркой насыщенности, которая всегда раньше отличалась искренностью стремлений.
Человек— страшное и сложное существо. Внутренний покой — это то, что иногда дороже дерзаний и взлета чувства. Что в них, если они порой так жестоко дорого даются, и частенько человек не в силах предпочесть даже привлекательность светлого счастья любви, если это покупается ценой тяжких страданий и потери покоя… «Шани» ты вправе отобрать от меня, но я прошу этого не делать. «Шани» — это сумма больших чувств, это наша любовь и наша тоска, наша радость и счастье, это не имя, поэтому оно не подлежит замене.
Ну, все‑таки надо кончать, поздно. Помни мои стоны, Лиинька, меня мучает совершенно непреодолимая тоска по тебе, я даже не могу тебе об этом сказать, как хотелось бы, ибо не хочу смущать твоего покоя. Знаю только, что такого ужасного настроения у меня не бывало. Крепко, бесконечно нежно тебя целую, тебя, мое счастье. Твой Шани».
Кончилась киноэкспедиция. Мы приезжаем в Москву, уже зима, продолжаются съемки. Посмотрели материал, все ужасно. Вдруг получаю телеграмму от Ушакова — он летит в Москву. Мы назначаем свидание на Арбате у какого‑то кафе. Идет снег, красивый, пушистый, и мне навстречу шагает Валера в зимнем пальто — каракулевый воротник, шапка пирожком, — тот самый капитан, который был героем моего романа. Я думаю: «Зачем он здесь? Нет звезд, нет луны, нет корабля, при чем же здесь капитан?» Мы заходим в кафе, он говорит, понял, что без меня не может, что мы должны быть вместе. «Валера, — отвечаю я грустно, — ну что тебе делать здесь зимой в Москве?» Там, в Ялте, на пляже, когда он на мостике, а я просто иду по набережной и он дает мне позывные (у нас были свои позывные. Вся группа знала эти «ту — ту» и, конечно, узнавала силуэт корабля с вдавленным носом), все было прекрасно. А сейчас — эта шапочка — пирожок из серого каракуля — и он, совсем другой, неуместный, нелепый, не имеющий никакого отношения к тому, что было. Все кончилось. Я кое‑как ему это объяснила.
А переделки картины продолжались. Я познакомилась с новым, третьим режиссером картины — Львом Кулешовым и его женой, актрисой Александрой Хохловой.
На студии в Лиховом переулке опять построен кратер вулкана. Опять там что‑то жгут, опять дым, копоть, опять мы все перемазаны, но это пустяки по сравнению с главной установкой — сдать картину к 31 декабря. Тогда план будет выполнен и вся студия получит премиальные.
Кулешов и Хохлова беседуют с актерами, смотрят материал. Хохлова сидит на стуле, одна нога обвивает другую каким‑то невероятным жгутом — она, наверное, дважды могла изогнуть ногу. Кулешов очень любил Хохлову и считался с ее мнением.
У него были две страсти — женские ноги и собаки. Когда он монтировал картину, в каждой перебивке между кадрами появлялись собаки или женские ножки. Вот бежит собака, лает, потом эпизод, перебивка— ножки, снова эпизод и опять собака. И когда я играла какую‑то сцену, он всегда требовал, чтобы я ноги как‑то по — особому расставляла. (Их он обязательно снимал отдельно.) У меня ничего не получалось, потому что Таиров и Коонен учили меня другому. Мы знали первую позицию, вторую, третью. Все как в балете.
Читать дальше






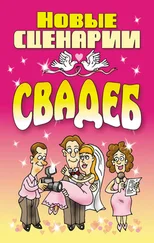
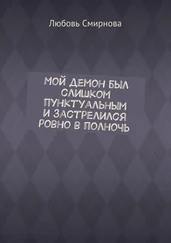
![Любовь Смирнова - 50 способов отъёма денег современного Остапа Бендера [Справочное издание]](/books/418953/lyubov-smirnova-50-sposobov-otema-deneg-sovremenn-thumb.webp)

