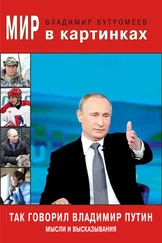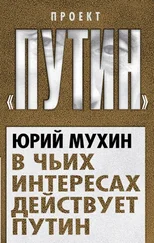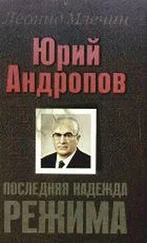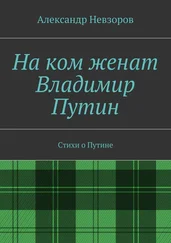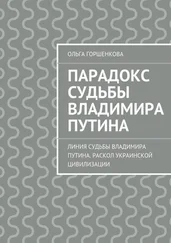«Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели. Правда, которая ныне в ходу среди нас, — это не то, что есть в действительности, а то, в чем мы убеждаем других».
По свидетельству современников, Андропов выше всего ценил в собеседниках и подчиненных умение говорить правду, сколь бы горькой и тяжелой она ни была, докладывать истинное положение дел, не лукавить во имя ложно понятого «политеса». Порой самого Андропова коробили прямота и откровенность суждений по острым проблемам его помощников, не принятое в высших партийных кругах «свободомыслие», и тогда он призывал участников своих «мозговых атак»:
«— Работайте сюда! (то есть, в документ, а не в полемику)».
Позднее Андропов постепенно освободился вначале от Бурлацкого, а затем и от остальных советников, видимо, не без давления со стороны ревностно относившегося к нему и его успехам М. Суслова. В 1964–1966 годах наступил конец «интеллектуальной вольницы». С Андроповым остались работать лишь Г. Шахназаров, А. Бовин и Г. Арбатов.
Сам Андропов не примкнул ни к одной из группировок, сложившихся тогда вокруг Брежнева, Косыгина, [34] См. сноску 16.
Шелепина, [35] ШЕЛЕПИН Александр Николаевич (1918–1994), советский политический и государственный деятель. В 1952–1958 — Первый секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1958–1961 — председатель КГБ при Совете Министров СССР. В 1961–1967 — секретарь ЦК КПСС. В 1962–1965 — председатель Комитета партийно-государственного контроля, заместитель председателя Совета Министров СССР. В 1967–1975 — председатель ВЦСПС. Член Президиума ЦК в 1964–1975.
Суслова. Он держался крайне осторожно, часто выглядел подавленным, мрачным, раздраженным. Несколько месяцев пришлось провести в больнице — здоровье не выдерживало психологических перегрузок. Он тяжело переживал многие вынужденные компромиссы, на которые шел, чтобы не вступать в конфликты с членами нового состава Политбюро. Свертывались инициативы прежних лет в отношении Запада, недостаточно продуманные шаги предпринимались в политике с восточноевропейскими странами, в Китае полным ходом развернулась «культурная революция». Мнением Андропова по этим и другим проблемам явно пренебрегали. Оттепель в отношениях с Брежневым произошла лишь после их совместной поездки в Молдавию, где Андропов произнес тост в честь военных подвигов генсека.
Тем не менее, во время всего периода партийной работы вокруг Андропова консолидировались лучшие умы единодушно признававшие высокий интеллект и эрудицию Андропова, и в тоже время обогащавшие его идейно-политические ресурсы. Сильной стороной Андропова было умение подбирать кадры в собственный аппарат, славившийся безупречной выучкой, профессионализмом, скрупулезной исполнительностью и четкостью, когда не нужно было вести «контроль за принимаемыми решениями» — исполнение моментально докладывалось самими исполнителями.
Но эффективность интеллектуального вклада Андропова и его, как теперь принято говорить, «команды» зачастую оказывалась невысокой. Дело в том, что во времена Хрущева в ЦК КПСС не было главного идеолога, многие новации рождались спонтанно, порой вопреки рекомендациям, исходившим из отделов ЦК. Для лучшего понимания «роли личности Андропова» в советской истории нашим современникам, особенно молодым читателям, следует знать, что в ту эпоху отдельные партийные деятели и даже такие структуры, как отделы ЦК КПСС, имели гораздо меньшие возможности влиять на магистральный курс партии, чем в эпоху Брежнева. Поэтому нельзя, скажем, возлагать на Юрия Владимировича всю полноту ответственности за принимавшиеся тогда внутри — или внешнеполитические решения.
С 1967 по 1982 год Андропов — председатель КГБ СССР. Брежнев, обосновывая назначение, припомнил партизанский опыт Андропова. Рассказывает П. Шелест. [36] ШЕЛЕСТ Петр Ефимович (1908–1996), советский политический и государственный деятель. В 1963–1972 — Первый секретарь ЦК КП Украины. В 1963–1973 — член Президиума ЦК КПСС. В 1972–1973 — заместитель Председателя Совета Министров СССР.
«Было видно, что для Андропова это предложение не было неожиданным. Но он все же сказал: «Может быть, не надо этого делать? Я в таких вопросах совершенно не разбираюсь, и мне будет очень трудно освоить эту сложную работу». Но вопрос был решен самым «коллегиальным» образом». [37] Шелест П. Да не судимы будете: Дневниковые записи и воспоминания. М., 1993.
Читать дальше
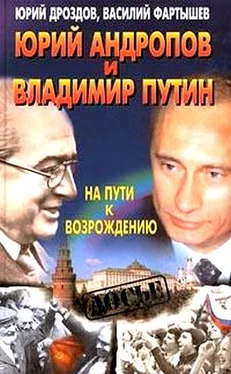

![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)