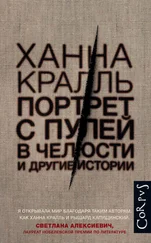Это он о Юреке Вильнере. Что тот выдержал неделю пыток в гестапо, а не месяц.
Ну как же, минутку. «Вацлав» говорил — месяц, Грабовский — две недели…
«Я точно помню, он там пробыл неделю».
Его упрямство уже начинает раздражать.
Если «Вацлав» сказал — месяц, он, наверно, знал, что говорит.
Так что же теперь получается? Оказывается, нам всем очень важно, чтобы Юрек Вильнер как можно дольше выдержал пытки в гестапо. Это ведь большая разница — молчать неделю или месяц. Нам бы, правда, очень хотелось, чтобы Юрек — Арье Вильнер — молчал целый месяц.
— Ну хорошо, — говорит Эдельман, — Антеку хочется, чтобы нас было пятьсот, литератору С. хочется, чтобы рыбу раскрашивала мать, а вы хотите, чтобы Юрек сидел месяц. Ладно, пусть будет месяц, это ведь уже не имеет никакого значения.
То же самое с флагами.
Они висели над гетто с первого дня восстания: бело-красный и бело-голубой. Народ на арийской стороне это волновало, и немцы с большим трудом их сняли — торжественно, как военные трофеи.
Эдельман говорит, что если флаги были, то повесить их не мог никто, кроме его людей, а они флагов не вешали. Они бы повесили с радостью, будь у них хоть немного красной, белой и голубой ткани, но ее не было.
— Значит, кто-то другой повесил, не все ли равно кто.
— Да? — говорит Эдельман. — Вполне возможно.
Хотя лично он вообще никаких флагов не видел. Только после войны узнал, что они были.
— Как же так? Ведь все видели!
— Ну, раз все видели, стало быть, флаги были. А впрочем, — говорит он, — какое это имеет значение? Важно, что люди видели.
Вот что самое скверное: он со всем в конце концов соглашается. И убеждать его дальше просто бессмысленно.
«Какое это сейчас имеет значение?» — говорит он и больше не спорит.
— Мы должны еще кое-что дописать, — вспоминает он.
Почему он остался жив?
Когда пришел первый русский солдат-освободитель, он остановил его и спросил: «Ты еврей? Почему же ты живой?» В этих словах прозвучало подозрение: может быть, он кого-нибудь выдал? может, отнимал у кого-то хлеб? Так что теперь я должна у него спросить, не выжил ли он случайно за чужой счет, а если нет — то почему, собственно, выжил?
Тогда он попробует объяснить. Например, расскажет, как шел в дом номер семь на Новолипках, где у них был сборный пункт, чтобы сообщить, что Инка, врач из больницы на улице Лешно, лежит без сознания в пустой квартире напротив. Когда больницу перевели на Умшлагплац, Инка проглотила тюбик люминала, надела ночную сорочку и легла в постель. Он ее перенес — как нашел, в розовой ночной сорочке, — через улицу, в дом, где уже никого не осталось, и теперь шел сказать, чтоб ее оттуда забрали, если она жива.
Мостовую на Новолипках перегораживала стена — дальше была уже арийская сторона. Из-за этой стены вдруг высунулся эсэсовец и начал стрелять. Выстрелил раз пятнадцать — и всякий раз пули пролетали в каком-нибудь полуметре от него, правее. Может быть, у немца был астигматизм — это такой дефект зрения, который можно компенсировать очками, но у этого немца, видно, был некомпенсированный астигматизм, и он промазал.
— И в этом все дело? — спрашиваю я. — Только потому, что немец не обзавелся подходящими очками?
Нет, есть еще одна история, про Метека Домба.
Как-то для комплекта — для тех десяти тысяч на Умшлагплаце — не добрали сколько-то там человек, и Эдельмана взяли прямо на улице и посадили на подводу, которая свозила всех на площадь. Подвода была запряжена двумя лошадьми, рядом с возницей сидел еврейский полицейский, а сзади немец.
Уже проехали Новолипки, как вдруг он увидел, что по улице идет Метек Домб. Метек был членом ППС [34] Польская социалистическая партия.
, его направили на службу в полицию, жил он на Новолипках и как раз возвращался с дежурства домой.
Эдельман крикнул: «Метек, меня загребли». Метек подбежал, сказал полицейскому, что это его брат, и ему разрешили спрыгнуть.
Они пошли к Метеку домой.
Дома был его отец, маленький, худой, голодный. Он посмотрел на них с неприязнью:
— Опять Метек кого-то снял с подводы, да? И опять не взял ни гроша?
Он бы мог за это иметь тысячи.
Он бы мог за это хотя бы выкупить по карточкам хлеб.
А он что делает? Снимает с подводы задарма.
— Папа, — сказал Метек, — не огорчайся. Мне это зачтется, и я попаду в рай.
— Какой рай? Какой Бог?! Ты не видишь, что творится? Не видишь, что Бога здесь давно уже нет? А даже если и есть, — понизил старичок голос, — то он на ИХ стороне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу