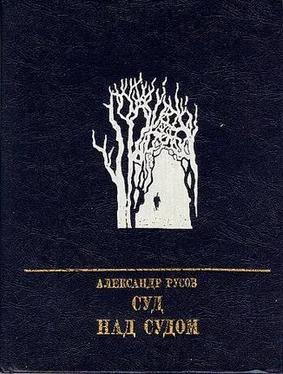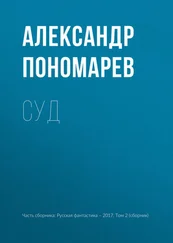— Постарайся кончить гимназию. И напиши, пожалуйста, старикам, что видела меня живым и здоровым.
Долго говорили мы потом с Лидией Николаевной Бархатовой о Богдане, о съезде. Я была переполнена впечатлениями и, конечно, долго не могла заснуть в эту знаменательную для меня ночь».
В каждом доме Поселка старых большевиков хранился флаг, который вывешивали всякий раз в преддверии революционных праздников. Закрыв глаза, я вижу отца, который обстоятельно, не спеша, как все, что он делал, выносит с крыльца уже освобожденный от чехла флаг, держась за древко обеими руками. Такими же чехлами была покрыта мебель одной из двух зимних комнат дома, уставленной цветами в горшках, что придавало ей сходство с палатой санатория старых большевиков. В другой комнате бело-серый чехол покрывал лишь кожаный диван под большим, отпечатанным в типографии, застекленным портретом в деревянной раме. На этом диване я лежал в малярийной горячке то ли в сорок шестом, то ли в сорок седьмом году, оглушенный хиной, накрытый несколькими одеялами, которые не могли согреть меня. Я вспомнил этот диван, куда-то бесследно исчезнувший с годами портрет, а также флаг в чехле много лет спустя, когда умирал от тифа в одной из московских больниц, мучимый нестерпимой головной болью и навязчивыми видениями. Мне чудилось, что я снова лежу под портретом, черты которого искажает неровное стекло и блики на нем, обесцвечивающие то одну, то другую часть изображения. В ночных кошмарах меня преследовало это лицо, меняющее свои очертания из-за световых провалов на месте носа, рта, подбородка, щеки, лба крутым изгибом нависших над ним жестких, темных волос.
И тогда, в мае девятьсот одиннадцатого, когда я умирал от тифа в бакинской тюремной больнице, меня мучил выплывающий из небытия лик. Порой мне чудилось самодовольное усатое лицо императора, которого хотели свергнуть еще при мне, в 1905 году, но свергли только в 1917. о-то спрятал его портрет на пыльный, темный чердак, в потайное место старого дома, чтобы в назначенный час извлечь оттуда, смахнуть паутину и вновь повесить на самом видном месте, будто мало пролили крови народной в борьбе за свободу и всеобщее счастье, будто все это было напрасно: кровь, баррикады, ссылки, больничная койка, на которой я оканчивал земное свое существоьание в мае тысяча девятьсот одиннадцатого года.
То я видел перед собой усталое лицо товарища, то гнусное лицо предателя — чем-то очень знакомое мне лицо. Мысли мои смешались. Я лежал прикованный к постели, голова раскалывалась от нестерпимой боли, и я никак не мог восстановить в памяти его имя, чтобы сообщить товарищам. Находясь в совершенно беспомощном состоянии, я не имел сил встать, броситься, задушить своими руками это ничтожество, опоганившее звание революционера, выжившее ценой подлости.
Лицо выплывает издалека, приближается, исчезает, вновь возникает, а рядом с ним я вижу наш флаг, лица демонстрантов, крупы коней, взлетающие нагайки, опадающие над толпой листки.
…Полуразвернутый флаг, который выносит мой беспартийный отец из дверей кратовского дома, почти касается деревянных ступеней. Мне почему-то кажется, что в эту самую минуту он собирается запеть своим низким голосом революционную песню, безбожно перевирая мотив. Я готов услышать, как фальшивит певец, хотя сам спел бы не лучше.
В моих воспоминаниях по-дачному одетый отец похож на картинного рабочего, бесстрашно идущего навстречу полицейским пулям и казацким шашкам.
Мог ли я знать уже тогда, что люди прошлого, настоящего и будущего живут на земле одновременно? Живут, находясь в разных плоскостях, которые время от времени пересекаются. Куда-то спешат, любят, ищут свою звезду, соприкасаются, пересекаются, сопереживают. Знал ли я, что один и тот же огонь перескакивает из сердца в сердце, как с крыши на крышу перелетают искры при страшных деревенских пожарах? Что всякая судьба — всегда продолжение и даже частичное воспроизведение далеких судеб прошлого и будущего.
На берлинском вокзале (кажется, по пути в Россию) к Богдану подошла старая армянка и попросила денег.
Она не задала обычный в таких случаях вопрос: «Ты армянин?»
— Ты — армянин, — сказала она как о чем-то само собой разумеющемся. — Ты должен мне помочь. Я из Битлиса, ты знаешь.
Откуда ему было знать?
— Я еду к сыну, — продолжала старуха. — У меня не хватило денег. Ты скажешь, где тебя найти, я отдам. Сын учится в Париже. У меня больше никого не осталось. Они всех убили. Битлис, ты знаешь. Я еду оттуда. Оттуда бегу. У меня не осталось ни слез, ни родных. Ты сам из России?
Читать дальше