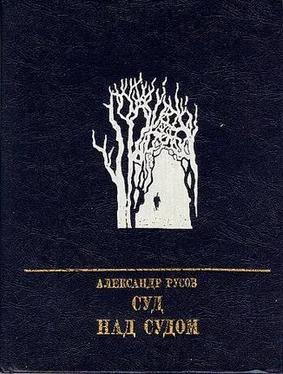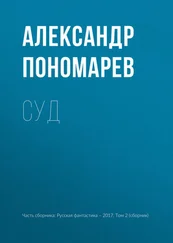Сегодня, 14 июня 1977 года, приступая к завершению этого коллективного труда, я вспоминаю те давние ночи, которые решили судьбу литературного архива старика Шагова. Неистовое многоголосие всех имеющихся в доме часов, образ времени, воплотившийся в некое подобие бесконечного шурупа, легкими отрывистыми движениями вкручиваемого в бесконечную толщу стены, а также сон, приснившийся мне в одну из тех давних ночей.
Во сне я видел площадь, заполненную огромпым числом незнакомых людей, к которым я хотел обратиться с разъяснительной речью. Зачем? О чем?
Бабушка Фаро стояла в стороне, с грустью смотрела в боялась за меня.
Я узнал в толпе Ивана Васильевича. Он скептически покачал головой и исчез. Ему на смену пришли многие шушинцы, петербуржцы, бакинцы, москвичи, с большинством из которых я был знаком лишь заочно, понаслышке. Я стоял на возвышении, искал кого-то в толпе и не находил, хотя все участники митинга были хорошо видны мне. Случайно я бросил взгляд к подножию трибуны и заметил, что сквозь толпу пробирается невысокий человек, которого я принял сначала за дядюшку Валентина. Человек снял шапку, его прямые, расчесанные на косой пробор волосы упали на лоб, и я тотчас догадался, что это он.
Следом шли братья: Тарсай, Людвиг, Тигран. Они поддерживали под руки отца и мать и вели их сквозь толпу к трибуне. Людская масса шевелилась, люди выходили на возвышение, а толпа редела, будто кто-то тянул за нитку, распуская клубок. Среди поднявшихся я узнал Марию Семеновну Бекзадян, а также дочерей Аршака Зурабова и Левона Лтабекяна, жен Лукашина и Тер-Габриэляиа. Огромная шляпа красовалась на величественной голове Марии Семеновны. Она чуть заметно кивнула мне и ласково улыбнулась. Я что-то хотел сказать, чего не успел сказать при ее жизни, но в это время меня окликнула Елизавета Борисовна — жена Дмитрия Постоловского.
Люди шли непрерывным потоком. Когда поднялись все знакомые, я хотел было начать свою речь, но вдруг обнаружил перед собой пустое пространство. Внизу никого не осталось.
Я вздрогнул и проснулся. Светало. Горела лампа. Все тепло из комнаты выдуло. Было зябко и сыро. Поясница ныла от неловкого сидения в кресле.
* * *
Те странные осенние дни следует, видимо, считать днями вынашивания замысла будущей книги. Даже не замысла — звуков, каких-то обрывков фраз, проплывавших перед глазами. Зима подступала. Листья деревьев неслышно падали на землю, их скручивало и уносило ветром. Они скребли, цепляясь острыми краями за асфальт, точно их волокли на казнь, а они упирались.
Недалеко от станции метро «Бауманская» шла большая стройка. В центре строительной площадки возвышался каркас купола, будто здесь восстанавливали разрушенный землетрясением Звартноц. По периметру располагались вбитые в землю сваи. Голая, еще не выявленная конструкция напоминала остов доисторического чудовища.
Вечером накануне отъезда Гиви из Тифлиса Неразлучные явились в дом Меликонидзе в Салалаки. Народу собралось великое множество, будто свадьбу праздновали, а не студента в университет провожали. Пили вино, гуляли в саду, спорили, зажигали свечи, на пари ходили по невысокому парапету — кто пройдет от начала до конца и не свалится.
— Ты спрашиваешь, кто я! — кричал Гиви, обращаясь к кому-то и сжимая в кулаке рюмку. — Я радикал. А вот ты, — целился он пальцем в грудь маленького тщедушного человека по фамилии Гульдин, — ты гнилой либерал, вот кто. Эй, Богдан, поди-ка сюда. Мы давеча о нем с тобой говорили. Так познакомься.
Кто-то полушепотом сзади:
— Хорошо быть радикалом с папочкиными миллионами.
— Что? — решительно обернулся Гиви, но в это время чья-то мягкая, теплая, дружеская рука опустилась ему на плечо.
— Гиви, дорогой, давай выпьем.
Кто-то о ком-то:
— Он ведет себя как несусветный нахал или гений.
Фраза, как пар, отлетела от губ и растаяла в темном тифлисском небе. Так что и предыдущее могло быть сказано не о нем.
Рука продолжала лежать на плече. Она пролежала ровно столько, сколько понадобилось хозяину дома, чтобы окончательно успокоиться. Сгустившийся было запах скандала рассеялся.
— Эх! — выдохнул Гиви, вновь разыскал глазами Неразлучных и направился к ним.
Они были новенькие, неиспорченные, они еще могли чему-то удивляться, радоваться, кого-то уважать, внимать речам старших.
— Пойдемте со мной, — сказал он.
В лаборатории пахло кислым еще сильнее, чем днем. Едва державшийся на ногах Меликонидзе зажег верхний свет и велел братьям надеть халаты.
Читать дальше