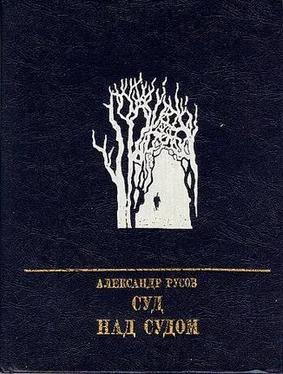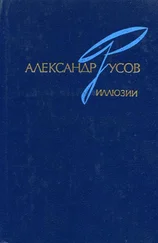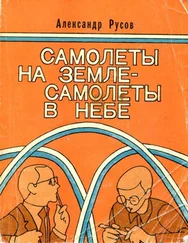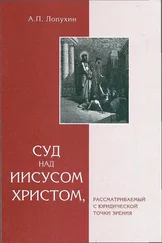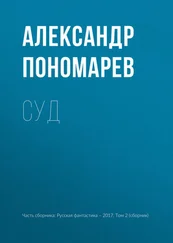А дальше… Дальше начались такие привычные для русского революционера сцены: выворачивание карманов для обыска, грубые окрики полицейских, тюремные кареты, одиночное заключение… Хваленая либералами «конституция» 17 октября ничего не изменила в этой обычной картине. Было, правда, одно утешение, что теперь придется сидеть под сенью «неприкосновенности личности», но не знаю, доставило ли бы это утешение даже г. Струве.
3 декабря, как мне кажется, закончился октябрьский период русской революции. Совет, эта организация всеобщей стачки, сделал все, что было возможно, развил в течение двух месяцев своего существования громадную деятельность. Но революция переросла свою старую форму — забастовку, и нужны были новые формы борьбы и новая для них организация.
Наступят ли вновь подходящие условия для нарождения таких широких беспартийных организаций, как Совет?
Конечно да! Наша революция еще далеко не достигла своего апогея. Еще ни один из тех жгучих вопросов, которые выдвинула русская жизнь за последний год, не разрешен.
В расширительном смысле замечание Богдана о неизбежной трансформации формы можно отнести и к подготовительным записям для книги о нем самом. Они то и дело меняли свое обличье, а метод поиска соединял в себе инженерский, научный и художественный подход.
Сколь решающее влияние может иметь обрамление чужого текста при восприятии его смысла, легко видеть уже из приведенного в записках обращения графа Орлова-Давыдова и графини Мусиной-Пушкиной к народу. Если отделить текст обращения от кнунянцевских комментариев, то прежде всего бросается в глаза немудреность письма, изобилующего грамматическими огрехами, в которых повинны то ли авторы, то ли ученики-наборщики. Кажется, что его писали не аристократы, а какой-нибудь нижний полицейский чин.
«Братья рабочие», к которым обращено послание, это, по существу, те же «бедные солдатики», о которых с нескрываемым раздражением против патриотически настроенных учениц писала Фаро-гимназистка в связи с началом русско-японской войны. Сами по себе такие определения не более чем сентиментальные пустячки, тогда как комментарии Богдана вкладывают их в уста «сиятельных хулиганов», существенно изменяя не только тональность послания, но и предельно выявляя образ коллективного автора, их писавшего. Слова «братья», «братский», «драгоценная кровь» и «трупы, сваленные вражеской рукой», обретают запах винного перегара и колорит знаменитого «братья и сестры!», хорошо знакомого послевоенным пассажирам пригородных электричек.
В своих записках о первом Совете рабочих депутатов Богдан не называет фамилий, хотя имена членов Исполнительного комитета и рядовых депутатов были уже хорошо известны тем, кто вел длящееся около года судебное разбирательство. Ничего не пишет он о встрече с Миха Цхакая, ненадолго приезжавшим в Петербург и введенным в Совет от рабочих Закавказья. Отсутствуют также упоминания о встрече с Виктором Никодимовичем Пилипенко в стенах Технологического института, где происходило второе заседание Совета. Не сообщается и о том, что одним из «диктаторов», руководивших грандиозной демонстрацией 18 октября, был двадцатидевятилетний инженер Николай Саркисянц, он же Петров, а другим — председатель Совета, двадцатисемилетний кандидат юридических наук Георгий Степанович Хрусталев-Носарь.
По окончании расследования обвиняемый Саркисянц якобы признался, что его настоящее имя Богдан Кнунянц, а почти через год после ареста заявил, что никаких показаний на дознании не давал, таковой фамилии не называл и совершенно не понимает, какими данными руководствовались жандармы, признав в нем Кнунянца.
По делу проходил еще один Петров, Алексей, одногодок Богдана, «владелец трех револьверов». Если добавить к этому, что двадцатисемилетний Кнунянц на всякий случай прибавил себе два года и на процессе фигурировал как «шушинский мещанин, 29 лет», то станет ясно, какой бег с препятствиями представляли собой для суда конспиративные игры.
Отсутствие имен, некоторая отстраненность повествователя от описываемых событий, ссылки на передовые статьи «Известий», им самим написанные, как на коллективное мнение Совета, что само по себе подразумевает отказ от авторства, придает фигуре Богдана таинственную незавершенность и неопределенность. Будто лицо его потерялось, делокализовалось, деперсонифицировалось, слилось с лицом многоликой толпы демонстрантов. Словно член Исполнительного комитета инженер Саркисянц, он же Петров, Радин, Русов, Богдан, Рубен, всякий раз существовал в новой резонансной форме, в новом лице, новом качестве, перевоплощаясь то в одного, то в другого подсудимого, проходящего по делу Совета рабочих депутатов.
Читать дальше