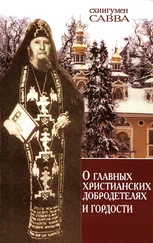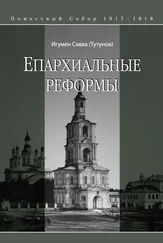Тщательный осмотр льдины убедил нас в ее пригодности к взлету. Это гарантировало спокойное и быстрое развертывание научных работ. Размеры льдины равнялись 1500×450 метров при средней толщине в 2 метра. Поверхность была покрыта довольно глубоким снегом, имелись небольшие снежные наддувы, вытянутые с северо-востока на юго-запад. Со всех сторон площадка была окружена более мощными тяжелыми полями с всторошенной поверхностью, сглаженной глубоким снегом.
Несмотря на кажущуюся крепость льдины, самолет стоял в 30-минутной готовности, и мы внимательно следили за поведением окружающих полей. Но за все время пребывания на льдине никаких признаков сжатия льда мы не обнаружили. Все же это не исключало возможности торошения, а следовательно, и порчи посадочной площадки в более короткий срок, чем необходимо для поднятия в воздух. Кроме того, нас могла задержать неблагоприятная погода. Поэтому по соседству, в двух с половиной километрах, была найдена вторая, более крепкая, льдина, но требовавшая 10—12-дневной работы всего состава экспедиции. На эту льдину мы нашли рулежную дорожку, по которой могли бы перебраться с места посадки. К счастью, этого не потребовалось».
Вчитываясь в эти строки, понимаешь: они написаны языком знатока, хозяйским языком. Особенно значителен следующий вывод:
«Кажущийся риск с посадкой на молодые льды был окончательно опровергнут после трех посадок Н-169. Конечно, прежде чем садиться на такие замерзшие полыньи, мы с воздуха тщательно определяли по изломам торосов примерную толщину льдины и по характеру распределения валов торошения степень ее устойчивости напору окружающих полей…»
Последний абзац, в котором речь идет о трех посадках, являет собой летный, чисто авиационный итог всей экспедиции.
Три посадки Н-169, три дерзновенных «прыжка» с земной тверди на зыбкую ледяную корку океана… При этом каждый прыжок протяженностью более тысячи километров! Каждая посадка в заранее намеченном пункте, рассчитанном математически скрупулезно в пределах не только градусов, но и минут широты и долготы.
В итоге — огромный треугольник на белом пятне карты с непрестанно изменявшимися «географическими адресами» дрейфующего лагеря воздушной экспедиции Черевичного:
Посадка Отлет
Точка № 1 3.IV 81°27′ с. ш. 7.IV 81°41′ с. ш.
Точка № 2 13.IV 78°30′ с. ш. 16.IV 78°26′ с. ш.
Точка № 3 23.IV 79°56′ с. ш. 28.IV 79°53′ с. ш.
В третьем полете была достигнута сама географическая точка Полюса недоступности — 83° с. ш. и 172° з. д., но посадка там оказалась невозможной.
Всего, таким образом, экспедиция провела на дрейфующем льду пятнадцать дней. Срок небольшой. Но сколько нового узнали за это время ученые! Прежде всего о глубинах океана. В первой точке лот на стальном тросе достиг дна в 2657 метрах от поверхности. Затем в последующие двое суток пребывания на льдине глубина за время дрейфа уменьшилась на 230 метров. Во второй посадке лот показал 1856 метров. На третьей — за пять суток дрейфа льдины — глубины колебались между 3330 и 3368 метрами.
Все полученные цифры были значительно меньше максимальных глубин океана в западной части Центрального Арктического бассейна, измеренных во время дрейфов корабля «Георгий Седов» (5180 метров), станции «Северный полюс» (4395 метров) и нансеновского «Фрама» (3850 метров), что вносит существенную поправку в господствовавшее до той поры представление о рельефе океанского дна.
До экспедиции Черевичного район Полюса недоступности предположительно считался наиболее глубоководным в Северном Ледовитом океане — на основании данных американского исследователя Г. Уилкинса. Достигнув в марте 1927 года 77° северной широты и 175° западной долготы, он по показаниям своего эхолота со льдины определил глубину в 5444 метра. А теперь можно считать, что Уилкинс располагал непроверенными данными: эхолот, измеряющий глубины с помощью звука, гораздо менее надежен, чем стальной трос с грузом на конце [2] В 1949 году в очередной высокоширотной экспедиции, участником которой был Черевичный, ученый-гидролог П. А. Гордиенко при помощи троса с грузом на конце определил вблизи точки Уилкинса глубины 2048 и 1928 метров. Данные американского исследователя были опровергнуты.
.
— Отлично работает машинка, — удовлетворенно отмечал Я. С. Либин всякий раз, когда стопор останавливал дальнейшее вращение вала лебедки и протяженность троса, ушедшего в пучину, фиксировалась на счетчике солидными четырехзначными числами.
Читать дальше
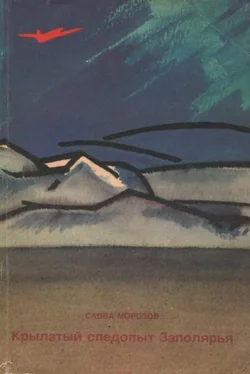

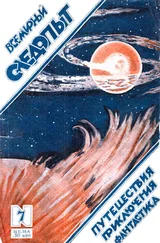
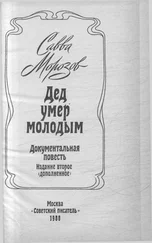
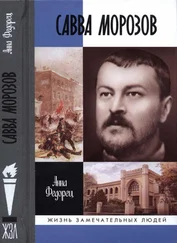
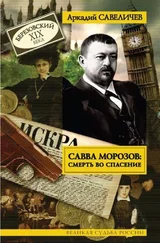
![Альфред Элтон Ван Вогт - Крылатый человек [litres]](/books/432336/alfred-elton-van-vogt-krylatyj-chelovek-litres-thumb.webp)