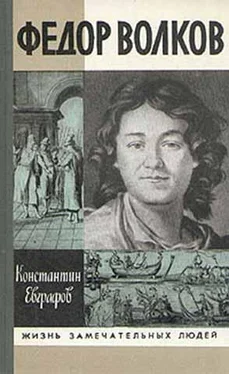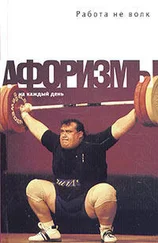Красоту на вашу смотря, распалился я, ей-ей!
Изволь меня избавить ты от страсти тем моей!
Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег,
Мучишь ты меня, Климена, и стрелою сшибла с ног.
Видеть мне тебя есть драго,
О богиня всей любви!
Только то мне есть не благо,
Что живешь в моей крови.
Александр Петрович вошел в раж и после чтения комедии не успокоился.
— Отдыхайте, братцы, отдыхайте, а я вам вот еще… — Сумароков потрогал голову и, не обнаружив там парика, вынул его из кармана и вытер им красное потное лицо. — Топят, черти… Так вот, у недоумка того, а-ка-демика, сочинения и переводы вышли… Сочи-ни-тель!.. Так я поздравил сию ученую дубину притчею, «Жуки и Пчелы» называется. Потрудитесь послушать. — Александр Петрович оглядел всех строгим взглядом, кашлянул в парик и стал читать на память:
Прибаску
Сложу
И сказку
Скажу.
Невежи Жýки
Вползли в науки
И стали патоку Пчел делать обучать.
Пчелáм не век молчать,
Что их дурачат;
Великий шум во улье начат.
Спустился к ним с Парнаса Аполлон
И Жýков он
Всех выгнал вон,
Сказал: «Друзья мои, в навоз отсель подите;
Они работают, а вы их труд ядите,
Да вы же скаредством и патоку вредите!»
Притча актерам понравилась, и поэт остался доволен. Он спрыгнул со сцены и упал в кресло.
— Ах, Федор Григорьевич, друзья мои! Гром гремит не всегда из небесной тучи, да иногда и из навозной кучи. Памятуйте об этом, чтоб верное суждение о ближних своих иметь… Сержант! — вдруг резко крикнул он и обернулся. — Что ж обед до сих пор не готов, каналья?
— Давно ждет, ваше превосходительство! — рявкнул от двери дежурный сержант так, что ярославцы вздрогнули.
— Ну, друзья мои, бог не выдаст — свинья не съест. — Александр Петрович перекрестил комедиантов и плюнул через плечо. — Не робей!
Занавес раздвинули, и актеры остались один на один с блестящим двором ее императорского величества. Спектакль начался.
Некоторое время Сумароков сидел неподвижно, глядя на сцену, потом осторожно отодвинул шпалеру и заглянул в узкую щелку. Наблюдал долго и остался доволен.
— Государыня изволит улыбаться, — прошептал он, обернувшись к Федору, загримированному Синавом.
Федор задумчиво кивнул головой — он входил в роль. Сумароков не стал отвлекать его и снова приник к шпалере. Елизавета Петровна улыбалась довольно милостиво. Сумароков успокоился и все же наказал Федору!
— Ты уж, Федор Григорьич, того, — он покрутил в воздухе пальцами, — особливо-то… в раж не входи. Утишься, голубчик!..
— Там видно будет, — усмехнулся Федор. — Текст-то ваш.
— Вот-вот! — обрадовался Александр Петрович. — И читай его на здоровье! Текст — это душа трагедии, сердце ее. Остальное — от лукавого!
— Пора мне, — перебил его Федор и вышел на сцену. «Пронеси и помилуй!» — перекрестился Сумароков и, нашарив рукой стул, сел и вперил свой взгляд в Федора.
Он только теперь заметил, какое живое лицо у актера. Оно ни на минуту не застывало, неуловимо и естественно отражая ту борьбу ума и сердца героя, о которой и хотел рассказать драматург, создавая своего Синава. Федор это показывал. В глазах его то вспыхивал, то гас какой-то неукротимый огонь, идущий изнутри. И огонь этот освещал то внутреннее противоборство долга с чувством, о котором сам драматург и не предполагал: Федор облек слово в действо, и слово и действо стали одним единым, разорвать которое было невозможно.
Сумароков узнавал и не узнавал своего Синава. Прежде он только слышал его, теперь — увидел; увидел Синава-человека, которого нужно было либо признать, либо не признать за родное детище.
…Закололась Ильмена, и унесли ее тело воины. Приближался тот монолог, которым, бывало, Никита Бекетов в Шляхетном корпусе доводил зрителей до умопомрачения, до спазм в горле.
На репетициях Федор переигрывал в страсти Никиту. Если Бекетов гремел, гудел колоколом, ломал в отчаянии руки свои, устремляя к небу округлившиеся глаза, то Федор приходил в бешенство и метался по сцене, как рыкающий тигр в клетке, ломающий ее железные прутья.
Сумароков закрыл глаза, чтобы не видеть этого ужаса, и вдруг услышал тихую исповедь грешника, жалкое, искреннее раскаяние сломленного духом тирана:
Я пролил кровь твою, не ты ее лила…
Не ты кинжалом грудь прекрасную пронзила —
Моя рука тебя, моя рука сразила!
И как жалкая запоздавшая просьба:
Ильмена, отпусти ты мне мою вину —
Кляну злодействие, — но поздно уж кляну!
Читать дальше