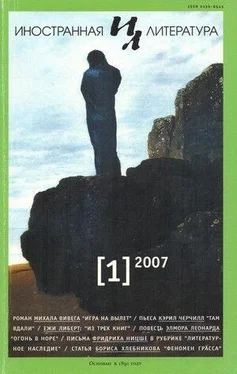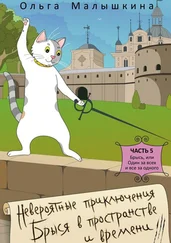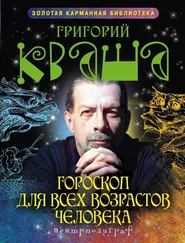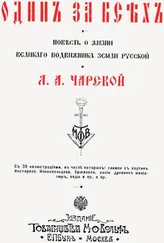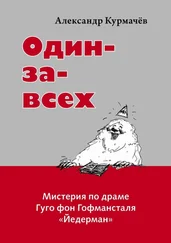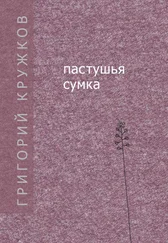И свидетельства, Боже, нет высшего в мире,
Что достоинство смертного мы отстоим,
Чем прибой, что в веках нарастает все шире,
Разбиваясь о вечность пред ликом твоим.
Левик тоже был участником этого всемирного заговора искусства, одним из его «безвестных бойцов». Недаром при всей его интеллигентности и вальяжности в нем всегда чудилось что-то от отставного солдата, от того самого «служивого», разгуливающего по русским и европейским сказкам, — храброго, лукавого и неунывающего: раз-два, горе не беда!
Ничего, кроме жалости, не могут вызвать попытки принизить левиковские переводы из Бодлера (в частности, «Альбатроса»), рассуждая о них сверху вниз, через губу, — что, кажется, сделалось «высокой модой» нынешней критики. Недавно на одном из поэтических сайтов я прочел воистину cri du coeur [1] Вопль души ( франц .).
читателя: «И что мы видим — в том же инете и в книжном магазине? А видим мы, как новое племя переводчиков повсюду вытесняет наших кумиров физически, не даря и близко того уровня духовности и мастерства, который был у старых мастеров. И при чем тут Время, якобы строгий и справедливый судья? Дело ведь простое: новые издатели, рынок, новый „блат“ и новая „взыскательность“…»
Впрочем, «Альбатрос» Бодлера-Левика, слава богу, может ответить сам за себя. Классика есть классика:
Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.
Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.
Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.
Так, поэт, ты паришь над грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.
Корней Чуковский в «Высоком искусстве» писал: «Сколько было переводов „Альбатроса“ на русский язык! Но рядом с левиковским все они представляются нам безнадежно неверными именно потому, что в них не чувствуется того сердцебиения любви, которое слышится здесь в каждой строке и без которого искусство не искусство». Добавлю к словам Корнея Ивановича: не только любовь, но и мастерство, и темперамент (которого в магазине не купишь), и та самая «перекличка сердец». Не случайно вторая строфа явно перекликается с тютчевским:
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
Но довольно — о том, что «бессмертно». Будем говорить лишь о том, что долговечно, как это и пристало в разговоре об искусстве (ars longa). Я не представляю себе, чтобы кто-то в обозримом будущем перевел лучше вот это: «Мари-ленивица! Пора вставать с постели!» (П. Ронсар), или это: «Я не люблю двора, но в Риме я придворный…» (Дю Белле), или «Попойки в кабаках, любовь на тротуарах…» (Верлен), или «Старушек» Бодлера: «Что вас ждет, о восьмидесятилетние Евы, / На которых свой коготь испробовал Бог!» Или «Жаворонка» Шелли, или «Как привезли добрую весть из Гента в Ахен» Браунинга… Ясно, что этот список можно продолжать на несколько страниц. А мы ведь даже не коснулись поэм: «Сказания о Старом Мореходе» Колриджа, «Чайльд-Гарольда» и «Беппо» Байрона, не коснулись немецкой поэзии, которую Левик так любил: «Порука» Шиллера, «Западно-восточный диван» Гёте, лирика Гейне.
Кстати сказать, мне не совсем ясно, чем так привлекала Левика поэма Гейне «Германия», почему он знал ее чуть не наизусть и перерабатывал от издания к изданию. Такие эпического масштаба сатиры оставляют меня равнодушным. Видно, что-то изменилось в духе времени. Переводила же Татьяна Гнедич в тюрьме, без книги, «Дон Жуана», помня по-английски всю первую главу. Да и мое поколение, худо-бедно, знало на память хотя бы десяток-другой строф «Евгения Онегина»; а иные — и это была не редкость! — могли прочитать «из головы» всю поэму целиком. (Интересно, а нынешние школьники так же читают «Онегина»?)
Но зато «Иегуда Бен Галеви» в переводе Левика — чудо и прелесть! Хотя вещь тоже не короткая; маленькая поэма, сплав лирики и игры, настоящего пафоса и грустной, нежной иронии.
Читать дальше