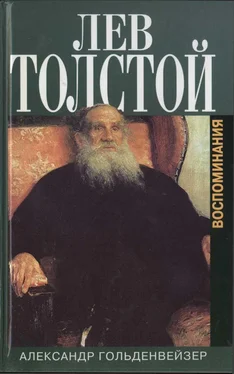Владимир Григорьевич в очень спокойном и серьезном настроении.
Вот пока все, что могу Вам сообщить.
Если положение дел будет все ухудшаться, то буду извещать Вас ежедневно…»
Письмо Л. Н. к В. Г. Черткову от 17октября.
«Хочется, милый друг, по душе поговорить с вами. Никому так, как вам, не могу так легко высказать — знаю, что никто так не поймет, как бы неясно, недосказанно ни было то, что хочу сказать.
Вчера был очень серьезный день. Подробности фактические вам расскажут, но мне хочется рассказать свое — внутреннее.
Жалею и жалею ее и радуюсь, что временами без усилия люблю ее. Так было вчера ночью, когда она пришла покаянная и начала заботиться о том, чтобы согреть мою комнату, и, несмотря на измученность и слабость, толкала ставенки, заставляла окна, возилась, хлопотала о моем… телесном покое. Что ж делать, если есть люди, для которых (и то, я думаю, до времени) недоступна реальность духовной жизни. Я вчера с вечера почти собирался уехать в Кочеты, но теперь рад, что не уехал. Я нынче телесно чувствую себя слабым, но на душе очень хорошо. И от этого‑то мне и хочется высказать вам, что я думаю, а главное — чувствую.
Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно живо представил себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может быть, месяцы, годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти, могу относиться к этим дням, месяцам так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутреннему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта‑то мысль, даже чувство, которое я испытал вчера и испытываю нынче, и буду стараться удержать до смерти, меня особенно радует, и вам—το мне и хочется передать его.
В сущности, это все очень старо, но мне открылось с новой стороны.
Это же чувство и освещает мне мой путь в моем положении и из того, что было и могло бы быть тяжелого, делает радость.
Не хочу писать о делах — после.
А вы также открывайте мне свою душу.
Не хочу говорить вам: прощайте, потому что знаю, что вы не хотите даже видеть того, за что бы надо было меня прощать, а говорю всегда одно, что чувствую: благодарю за вашу любовь.
Это я позволил себе так рассентиментальничаться, а вы не следуйте моему примеру.
Жаль мне только, что Галю до сих пор не удалось видеть. Вот ее прошу простить. И она, вероятно, исполнит мою просьбу».
Из письма О. К. Толстой ко мне от 17 октября.
«…Вчера получила вести (из Ясной) очень грустные и неприятные. Софья Андреевна опять в ужасном состоянии, и здоровье Л. Н. висит на волоске…
…Софья Андреевна завладела секретной записной книжкой Л. Н. и многое из нее почерпнула, а кроме того, говорят, что кто‑то ей проболтался…»
Из письма А. П. Сергеенко ко мне от 18 октября.
«Л. Н. совершенно здоров, если не считать некоторой небольшой слабости, которая у него была вчера. Третьего дня он совсем было собрался приехать к нам, но нашел лучшим отложить это еще на несколько дней.
А Софья Андреевна подходила к Телятенкам и выслеживала, не едет ли он к нам. Л. Н. ничего ей не ответил по поводу всего того, о чем я писал в последнем письме, и она больше не пристает к нему. Он сказал ей, что берет назад все свои обещания. Она более или менее спокойна.
Вот пока все самое главное».
Из записок А. П. Сергеенко.
«Здоровье Л. Н. хорошо. Душан Петрович рассказывал, что 14–го, в тот день, когда Софья Андреевна написала Л. Н. свое письмо, он ожидал, что у Л. Н. будет вечером опять припадок. Л. Н. с утра был слабый, голос у него был вялый, и когда он говорил, губы у него слабо двигались, рот едва открывался. Все это, особенно то, что слабо двигались губы, было для Душана Петровича нехорошим признаком. Но несмотря на свою слабость, Л. Н. все‑таки решил после завтрака поехать на прогулку. Душан Петрович пробовал было его отговорить, предлагал ему поехать в экипаже, но Л. Н. сказал, что поедет верхом потихонечку и что он чувствует
— ему будет лучше от прогулки. Душан Петрович не мог больше отговаривать Л.H., и они поехали.
Отъехали они шагом, Л. Н. ехал впереди. Душан Петрович тревожился за него: он был слишком слаб. Но проехав шагом некоторое расстояние, Л. Н. припустил лошадь, а затем остановил ее и подозвал к себе Душана Петровича. И Душан Петрович не поверил глазам своим. Это был совсем другой Лев Николаевич, чем четверть часа тому назад. Лицо оживленное, свежее, голос громкий и губы, по словам Душана Петровича, совершенно «жизненные». Они долго ездили, и Л. Н., как обыкновенно, выбирал наиболее трудные места для проезда. Особенно изумил Л. Н. Душана Петровича тем, как он переехал один овраг с очень крутыми сторонами. Спуск и подъем на другую сторону были настолько круты, что Душан Петрович слез и вел лошадь в поводу; а Л. Н. спустился на лошади, уверенный, как он говорил, в крепких задних ногах Делира, и одним махом взял гору и с такой легкостью, быстротой и ловкостью, что Душан Петрович нашел это удивительным даже для Л. Н. Рассказывая об этом, Душан Петрович сказал, что надо было бы над этим оврагом поставить доску с надписью: «здесь спускался и поднимался Лев Толстой».
Читать дальше