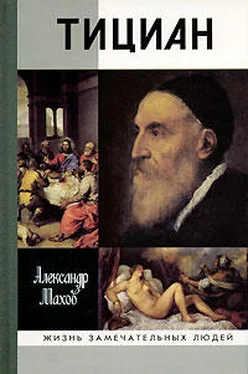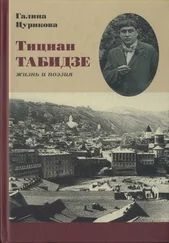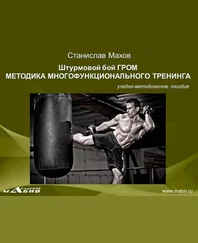Любопытные данные приводит искусствовед Боскини, автор первого «путеводителя» по Венеции, ссылающийся на слова ученика мастера Пальмы Младшего. Оказывается, в последние годы Тициан пользовался своеобразной живописной техникой, а именно: вначале он «покрывал поверхность холста красочной массой, как бы служившей ложем или основой того, что он хотел в дальнейшем выразить… Такие энергично сделанные подмалевки были выполнены густо насыщенной кистью в чистом красном цвете, который должен был наметить полутон. Той же кистью, окуная ее то в красную, то в черную, то в желтую краску, он вырабатывал рельеф освещенных участков… По мере обнаружения не соответствующих замыслу деталей, он принимался действовать как заправский хирург, безжалостно удаляя опухоли, отрезая лишнее мясо и вправляя руки и ноги… Затем повторными мазками доводил фигуры до состояния, когда, казалось, им недоставало только дыхания. Последние ретуши он наводил мягкими ударами пальцев, сглаживая переходы от ярких бликов к полутонам. Иногда теми же пальцами художник наносил густую тень или лессировал красным тоном, точно каплями крови, дабы оживить расписанную поверхность… К концу жизни он действительно писал только пальцами». [88] Boschini M. Ricche minere della pittura veneziana. Venezia, 1664.
В мастерской появилось немало талантливых учеников, которыми больше занимался постаревший Джироламо Денте, поскольку Орацио был вынужден отвлекаться на дела, связанные с торговлей древесиной и зерном. Среди новичков выделялись Эль Греко и внучатый племянник покойного друга Пальмы Старшего Якопо Негретти по прозвищу Пальма Младший. Его появление всколыхнуло в душе Тициана воспоминания о годах молодости и Виоланте. Известно, что юному Эль Греко поступить в мастерскую Тициана посоветовал Тинторетто, который, в отличие от многих современников, высоко ценил работы престарелого мастера и прежде всего «Благовещение» в Сан-Сальваторе и «Мученичество святого Лаврентия».
Одной из картин, написанных художником «для души», является его совершеннейшее творение «Пастух и нимфа» (Вена, Музей истории искусств). Как же оно непохоже на предыдущие poesie , написанные для испанского короля, не говоря уже об аллегорических картинах для феррарского герцога! Картина писалась как бы по наитию, без какого-либо плана или указаний литературного источника. Подчиняясь воображению, кисть художника, казалось, выхватывала фигуры из космического хаоса. От нимфы она переходила к пастуху и, обозначив обе фигуры, шла затем к дереву с обломанным стволом, и далее ее мазки приближались к горизонту. Неожиданно движение кисти прерывалось, словно художник побоялся впасть в повествовательность и лишними словами нарушить звучание красок, выражающих нечто более значительное, нежели отдыхающие на закате нимфа и пастух. Розоватые блики освещают их фигуры, за которыми сокрыта некая тайна, до конца неразгаданная самим художником, а в сгущении колорита явно ощущается какая-то недосказанность, элемент умолчания.
Эту тайну тщились разгадать многие исследователи. Делались ссылки на известный миф о Дионисе, обнаружившем спящую Ариадну. Кто-то даже узрел в позе пастуха фигуру Полифема работы Дель Пьомбо на вилле Фарнезина в Риме, которую Тициан вряд ли видел и уж никак не мог так точно запечатлеть в памяти. Если говорить о вилле Фарнезина, то, скорее всего, Тициана поразили бы там смелые ракурсы фигур на фресках Рафаэля.
Действительно, на картине слышны отголоски прежних аллегорий. Например, два дерева — высохшее и живое, чьи последние листья жадно обрывает вставший на задние ноги козел, смахивающий издали на похотливого сатира. День угасает в багровом пламени заката, и пастух, отыграв мелодию на свирели, смотрит с нежностью на пробудившуюся нимфу. Его фигура сдвинута влево, чтобы лучше выделить девушку, лежащую в изогнутой неудобной позе на шкуре леопарда.
Обернувшись лицом с выражением застывшей маски греческой трагедии, она непонимающе устремила взор в пустоту, как бы вопрошая — а что же дальше после заката? Ответа нет. Ее возлюбленный в грубых протертых штанах, которые до сих пор в ходу у пастухов Кадора и Абруццо, меньше всего похож на разудалого бога Диониса, хотя и на его голове венок, но не из виноградных, а из дубовых листьев. Эти две одинокие человеческие фигуры кажутся последними оставшимися в живых на небольшом клочке земли после пронесшейся сокрушительной бури. Такое впечатление усиливается преобладанием в колорите низких тембров звучания бурых, зеленовато-мшистых и пепельных тонов. А сама картина несет на себе отпечаток скорби и трагического одиночества. Ее можно рассматривать как окончательное прощание Тициана с мифом о добрых или злых богах, о безоблачном детстве человечества, когда мир был полон гармонии и радости.
Читать дальше