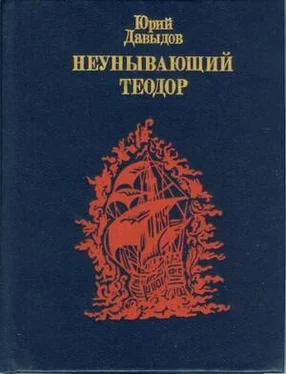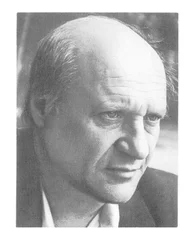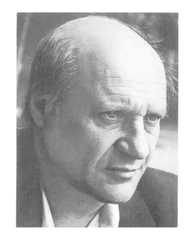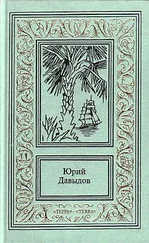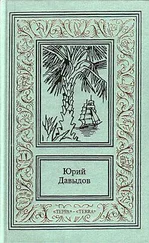Прячась за могучими вязами и густым кустарником, мы разглядывали транспортное судно — старая грязная лохань. Широкая полоса воды отделяла ее от низкого песчаного берега Лонг-Айленда. Круглые сутки дежурные баркасы объезжали плавучую тюрьму. Ночью патрулировал еще и береговой наряд гессенцев.
Не забыть слитный стон из трюмов «Джерси» — стон раненых. Не забыть вой голодных, когда над люками, забранными железными решетками, опрастывали мешки с пищевым довольствием — гнилыми яблоками. Не забить зловоние, тяжело натекавшее с «Джерси», — запах заскорузлой человечины, гноящихся язв, испражнений. И не забыть эти береговые песчаные рвы, еженедельно смыкавшиеся над мертвецами. Одиннадцать тысяч легли в эти рвы, одиннадцать тысяч.
Подкупив стражу, женщины, случалось, проникали в плавучую домовину, кишевшую заразой, как чумной барак. Сопревший от гноя корпий заменяли свежим, стирали вшивое исподнее, выгребали нечистоты, обмывали трупы. Да и одним лишь своим присутствием бодрили изможденных людей, в глазах которых мерцало безумие. Среди тех горожанок, чей героизм выше батальных подвигов сильного пола, неизменно была и Маргарита Уэттен.
Мичман Барни не скрыл от нее свой план. То есть не то чтобы план, а намерение. Живые темные глаза миссис Маргариты вспыхнули так радостно-ярко, что все в комнате будто бы посветлело. Вспыхнули и померкли, она покачала головой и горестно вздохнула. Мичман Барни печально потупился. Э, он тоже не видел никакого просвета.
И вдруг словно бы что-то затеплилось.
Среди редких и случайных посетителей харчевни «Золотой желудь» был и посетитель регулярный — солдат в зеленом мундире, усатый и ражий, как и все здешнее гессенское воинство. Ведь владетельные князья раздробленной Германии продали англичанам тридцать тысяч своих верных подданных. Репутация у них была того же цвета, что и знамя, — черная: пленных вешали, женщин насиловали, фермы грабили. Немало гессенцев дислоцировалось в оккупированном Нью-Йорке, и потому, как уже говорилось, мичману-лазутчику мог пригодиться спутник, владеющий немецким.
Но — по порядку.
Началось с того, что мичман опознал в регулярном посетителе «Золотого желудя» одного из тех караульных, что после заката солнца вышагивали по низкому песчаному берегу Лонг-Айленда ради вящей охраны «Джерси». Но это опознание не стоило бы и гроша, если бы Ганс Мюллер (так звали солдата) однажды не привел в харчевню соотечественника. Они пригубливали рюмочку ликера и торжественно салютовали друг другу клубами трубочного дыма. Молчуны! А потом Ганс Мюллер принялся объяснять однополчанину достоинства русской икры. Нетрудно было сообразить, что ражий усач бывал с России.
На следующий вечер он опять заявился один, уселся в своем уголке, пригубливал рюмочку и курил трубку. Скажите, как поступили бы вы, любезный читатель? Вы устроились бы рядом и попытались вступить в беседу.
Не стану рассказывать о «подходах-заходах», произведенных вокруг да около Ганса Мюллера. Скажу лишь, что была выдана весьма куцая информация: герр Мюллер, ваш vis-ả-vis, когда-то служил на гамбургских судах, плавал в Кронштадт, бывал в Петергофе и тоже отдает должное русской икре. Этого оказалось достаточным, чтобы развязать не слишком поворотливый язык герра Мюллера.
Мало-помалу он выложил свою историю, сохраняя на грубом лице с резкими морщинами выражение деревянное и перемежая свое косноязычие долгими паузами, которые казались сизыми, ибо они тонули в клубах табачного дыма.
Он был из тех голштинцев, что служили Петру III. Когда Екатерина отправила незадачливого супруга к праотцам, решено было отправить его верных голштинцев к соотчичам. Голштинцы жалели о сытом житье в России. Россия, не жалея голштинцев, учинила им жестокие праводы: на траверзе Кронштадта буря разметала и разбила суда. Многих поглотил Финский залив, немногие, Ганс Мюллер в их числе, добрались до прибрежных валунов. Кронштадтская стража на берег не пустила. Сидючи на камнях, бедняги вопияли о помощи. Комендант крепости, исправный служака, ждал распоряжений высшего начальства, но вместе с тем комендант, ненавистник немецкого засилья, не жаждал распоряжений высшего начальства. Короче, уцелела горсть. Ганса приголубила кронштадтская молочница. С грехом пополам он вернулся в Гольштинию, где у него не нашлось ни кола ни двора, и он мыкался, как шелудивый пес, пока не осенился черным знаменем…
Невеселая история. А все же вряд ли забрала бы за живое, не вообрази пишущий эти строки на месте Ганса нашенского Ивана: вспомните слухи о готовности русской монархини пособить русскими штыками английскому монарху; слухи, сильно огорчившие на Мартинике Федора Каржавина. Вот и вообразился теперь, в харчевне «Золотой желудь», на месте рыжего голштинца малый рязанский или калужский.
Читать дальше