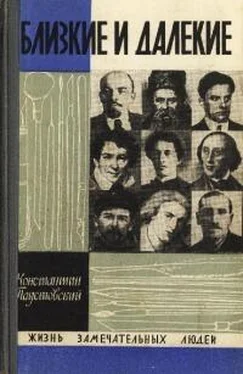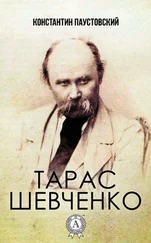Олеша сидел за столиком с печальным молчаливым негром-актером Одесской киностудии.
— Только что был налет, — сказал Олеша. — Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?
Я сказал, что город изменился с начала войны, замер и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.
— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно. — Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, о Диогене.
Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.
— Вот, — сказал Олеша, — все, в том числе и вы, считаете Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий, бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. От бестолковости. А бочка все-таки, какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик: «Деньги на бочку», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!»
Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:
— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.
Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.
Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.
Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.
Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.
Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть. Сухое описание вряд ли что-нибудь даст читателю. Но все же я попытаюсь описать эти дворы.
Это прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.
Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.
На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.
Мы вошли в такой двор. Он был пуст.
Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.
Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.
Против нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью: «Зубной врач И. С. Вайнтрауб».
Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.
— Еще до революции! — заметил Олеша. — Это звучит как «еще до рождества Христова» или «еще до всемирного потопа».
Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.
Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.
Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.
Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.
В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.
Читать дальше