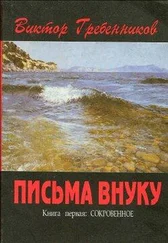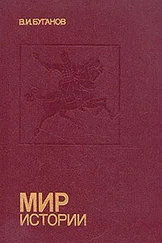Часовой вытаращил глаза, передернул затвор винтовки; самолет как бы в ответ на это резко свернул в сторону, возвращаясь в лагерь, но затем сделал крутой вираж, и, огибая вышку уже справа, перевалил через забор на ту сторону — на волю. Солдат вскинул винтовку, — а я гляжу издали и думаю: неужто стрелять станет? За ложную тревогу однако не похвалят, особенно за стрельбу в противоположную от лагеря сторону — а там их казармы, штаб, офицерские дома…
Охранник, стуча сапогами по деревянному полу вышки, заметался из угла в угол: что делать? Схватив телефонную трубку, начал было вопить в нее что-то нечленораздельное, как вдруг самолет опять повернул и пошел прямо на него… Служака оцепенел; бросив трубку, снова вскинул к плечу винтовку, но ствол в его дрожащих руках ходил ходуном…
И далась же моему бедолаге слепню эта вышка!
Влекомый им планер облетел ее дважды, затем еще раз побывал глубоко в зоне, и лишь после этого, круто забирая вверх и резко увеличив скорость, растворился в небесной синеве; надеюсь, моя нитка вскоре от него отвязалась.
По телефонному звонку горе охранника на пост взбежали двое военных. На вышке поднялся гвалт: один, с мертвенно бледным лицом, бестолково махал рукою, показывая, как «сам» летел самолет, а ефрейтор разводящий крутил пальцем у виска — ты, мол, такой сякой, тронулся тут на вышке от жары иль страху, — и увел его вниз, оставив наверху другого солдата, уже не с винтовкой, а с новеньким автоматом.
А того горе-часового на вышке я больше не видел…
Дело-то могло кончиться много хуже: отвяжись нитка от мушиной ноги раньше, вблизи от вышки, или поверь тот ефрейтор словам часового — немедленная «генеральная проверка», со «шмоном» (повальным обыском), посадкой в карцер всех подозреваемых; допросы, общее ужесточение режима — как при каждом ЧП…
Лагерные мои «университеты» длились шесть лет — до смерти Сталина, и радостным теплым летом пятьдесят третьего я оказался на воле с полностью снятой судимостью [5] В. С. Гребенников. Мои университеты. «Наука и жизнь», 1990 г., № 8.
. Куда ехать? А в Горький [6] Ныне — Нижний Новгород.
: с тамошними астрономами у меня когда-то был крепкий контакт. Увы — не взяли… Пришлось, скрепя сердце, устроиться в клуб художником-оформителем, благо художнический опыт был у меня уже изрядным. Там появился у нас сын Сережа, а еще через полгода мы махнули в Страну моей Юности — Исилькуль, к его привольным степям, милым грибным и ягодным колкам, полянам и опушкам, к его щедрым садам-огородам, к обильному всякой всячиной рынку, где в прохладе мясного лабаза оттягивали крючья тяжелые свиные и бараньи туши, говяжьи грудины и бока, а на бесконечных прилавках теснились пирамиды из огурцов, помидоров, яблок и прочей садово-огородной снеди.
Это было олицетворение щедрости и плодородия замечательного края; здесь, на рынке, била ключом славная, богатая жизнь с бесподобно живописной толчеей телег, лошадиных грив, весов, мешков с мукою, яркими плюшевыми кофтами казашек, увешанных монетами, кучерявыми спинами и лбами баранов, пиалами с шипящим кумысом, серебряными узорными отделками ремней и подвесок на одеждах стариков-казахов в сапогах выше колена на круто изогнутых колесом ногах — от того, что эти ноги всю жизнь сжимали туловище коня; кого-то из них я, наверное много лет назад потчевал акрихином и ставил им противомалярийные уколы…
Только тут я почувствовал в полной мере свое Второе Рождение на свет, вдохнул по-настоящему истинный Воздух Свободы — чистейший воздух бескрайние исилькульских степей, плодороднейших полей, с их заливистыми кузнечьими трелями, с их медово-душистыми многоцветными лугами, с друзьями моего детства насекомыми, с торжественно-величавыми закатами, подобных которым я не видел больше нигде в стране.
Энтомологов, однако, тут уже не требовалось — с малярией давно покончили и я поступил в железнодорожный клуб художником [7] Сейчас в этом здании — историко-краеведческий музей, с мемориальным залом В. С. Гребенникова. Ред.
. Рисовал я рекламы, писал афиши, делал декорации к спектаклям портреты передовиков; после работы этюдник на плечо — и в Питомник, в леса и степи: писать природу, а то и просто городские дворики и милые сердцу домишки. Репродукции с сохранившихся этюдов тех времен — на соседних страницах. А потом, обзаведясь оптикой — опять же самодельной! — стал писать этюды с насекомых, но теперь крупные, с метр или больше — уже масляными красками. Бывало, этими насекомьими этюдами были сплошь увешаны все стены нашего жилища; масляные краски — материал для этого «жанра» живописи чрезвычайно трудный, многие этюды не получались, да и вообще большую часть их я дарил знакомым, а когда накапливалось слишком много — совал в печку: молодой, мол, напишу еще сколько надо, успеется…
Читать дальше