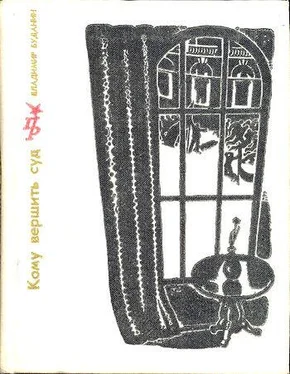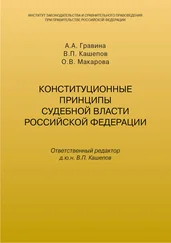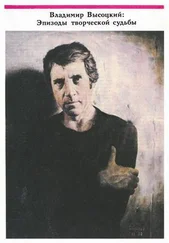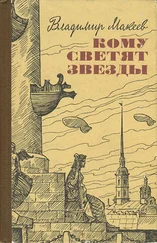Восемь лет не виделись они с господином Пешехоновым. И вот — радуйтесь, милостивый государь! — в понедельник новая встреча. Что гонит его к адвокату? Неужели и ему охранка мешает жить?
Да, а ведь речь-то, кажется, шла о защите Трегубова. Щекотливое возникнет положение. Михаил ожидает получить в защитники знаменитого присяжного поверенного Соколова. А перед ним предстанет Петр Красиков!
Петр Ананьевич возвратился к столу, встал за спиной у Наташи. Она повернула к нему лицо. Щеки ее разрумянились, глаза смотрели ожидающе. Красиков прочел апелляцию, сказал:
— Исправлено хорошо. Можно идти дальше. Вы готовы?
Наташа кивнула.
— В таком случае продолжим. Пишите: «Изложенное и понуждает меня просить высокий суд об отмене решения, постановленного с очевидным нарушением закона». Готово? Диктую дальше: «Посему полагаю, что иск надлежит удовлетворить в полном объеме». Написали? Заканчиваю: «Во исполнение воли мещанина Степанова, присяжный поверенный Красиков». Благодарю. Наташа, вы не очень торопитесь? Выслушайте меня, и я тотчас отвезу вас, не возражаете? Вы в Озерки?
— Да, — прошептала она.
— Как нам быть? — Петр Ананьевич дождался, когда Наташа разложила экземпляры апелляции и смахнула пыль со столика. — Я задолжал вам за две педели. И сегодня, к сожалению, опять не могу заплатить. Подождете до следующей субботы?
— Подожду. — Наташа вздохнула.
По тому, как она стала сосредоточенно рыться в ридикюле и как долго, согнувшись, шнуровала высокие сапожки, Петр Ананьевич угадал: она едва удерживается от слез. «Что же делать?» — думал он тоскливо. Менее всего хотелось ему сейчас объясняться — ей ведь известно о большом гонораре, полученном из Коммерческого суда по делу купца Воздвиженского.
Гонорар действительно был порядочный. Наташа, должно быть, очень бы удивилась, узнав, что почти все, чем Красиков располагал, накануне он вручил товарищу для кассы большевистского ЦК. Но что ей за дело до этого? В ее глазах он вполне благополучный присяжный поверенный. Не корифей, конечно, подобно Карабчевскому, Керенскому или Грузенбергу. Но ведь не обязательно быть «корифеем», чтобы в срок рассчитываться…
Наташа зашнуровала сапожки, выпрямилась. Глаза ее были влажны. Петр Ананьевич коснулся ее плеча.
— Пойдемте, — сказал он.
На Литейном остановили извозчика. На козлах сидел моложавый финн со светлой шкиперской бородой и короткой трубкой в зубах. Пролетка у него была новенькая, пахла кожей и столярной мастерской. Он окинул оценивающим взглядом господина в серой визитке, перчатках, с тростью, при галстуке-бабочке и миловидную дамочку в прикрикнул на гнедую лошадку:
— Тпру! Стой, глупый дурак!
Они устроились на мягком сиденье, и Петр Ананьевич приказал извозчику ехать в Озерки. Финн — он был в темной куртке из чертовой кожи и кепке с лакированным козырьком — обернулся, некоторое время молча попыхивал трубочкой. Должно быть, прикидывал, заговорить ли о плате или положиться на щедрость господина в визитке. С такой приятной дамочкой на ночь в Озерки едет — не поскупится. Финн отвернулся и хлестнул лошадку кнутом:
— Н-но! Пошел, пошел скоро…
Миновали Литейный мост, остался позади Финляндский вокзал, пролетка покатила по Лесному проспекту. Впереди слева на фоне зеленого вечернего неба поднимались черные силуэты заводских труб. Над ними висело дымное облако. Для рабочих трудовая суббота еще не закончилась. А Выборгская сторона уже настраивалась на воскресенье. Слева и справа на тротуарах исходила красками и голосами развеселая толпа. Багровые хмельные лица, цветастые платья, кофты, платки, начищенные до блеска сапоги, шелковые рубахи, подпоясанные кавказскими наборными ремешками, — все это двигалось, перекрикивалось, хохотало. Из распахнутых окон трактира вырывалось пьяное пение. На углу под фонарем гармонист растягивал меха трехрядки, услаждая «Барыней» слух текущей мимо толпы.
Наташа забилась в уголок пролетки и оттуда, как из норки, пугливо поглядывала на Петра Ананьевича. Она слегка побаивалась его и вместе с тем чувствовала себя подле него в безопасности. Он был великодушен — она не раз имела случай убедиться в этом — и безжалостен в словах — и это ей пришлось испытать на себе. Но не суровость в нем преобладала, а доброта. Страшась его слов, она обыкновенно ждала от Петра Ананьевича сердечности. И он, кажется, никогда не обманывал ее надежд.
Сейчас он молча курил, стряхивая пепел папиросы на дорогу. С ней он, против обыкновения, не заговаривал. Не расспрашивал об Озерках, дяде, о Саниных успехах в гимназии. И она помалкивала. Размышляла, как выйти из положения.
Читать дальше