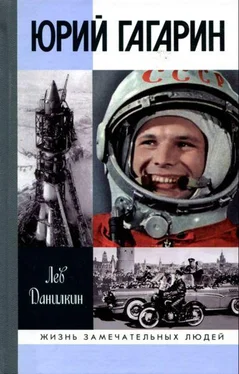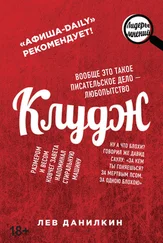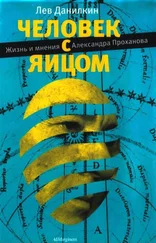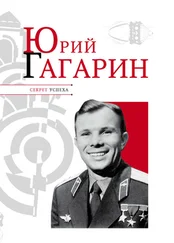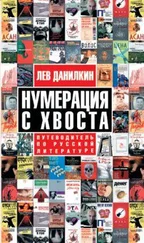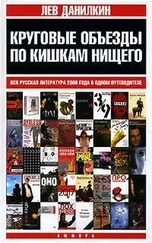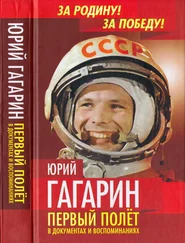Можно понять, почему слово «космонавт» в какой-то момент стало использоваться иронически и приобрело пейоративный оттенок. Сразу же после 12 апреля в СССР на предприятиях появились так называемые «космические» бригады: в них помимо обычных людей — Иванова, Петрова, Сидорова — числился один… «космонавт», Гагарин, например; всего лишь по документам, естественно. Работники выполняют за это призрачное существо производственный план, после чего «заработанные» им реальные деньги перечисляются невесть куда, например в Фонд мира. Этот механизм отбора у населения денег (вы бы хотели работать лишние полчаса в неделю — и отдавать эти деньги «на космос»?) трудно даже назвать циничным — скорее уж иллюстрирующим значение фразеологизма «на голубом глазу». Сам Гагарин, что любопытно, знал об этом и не протестовал — наоборот, попадая в поле деятельности своего фантомного двойника, благодарил рабочих за «почин»; так было, например, при посещении киевской фабрики «Киянка» (36).
Поразительно, что смерть Гагарина не закрыла этот вопрос, а, напротив, усугубила его. Мертвые оказались даже удобнее. Валентин Гагарин — брат Юрия — описал в послесловии ко второму изданию своей книги удивительный эпизод, когда, явившись на проходную Рязанского радиозавода, он обнаружил местную «молнию» — агитационную стенгазету, в которой сообщалось, что в марте 1973 года месячный заработок слесарей-сборщиков Гагарина, Серегина и Комарова составил 1000 рублей и эта сумма перечислена на текущий счет № 170039 Советского фонда мира. «Сложные чувства овладели сердцем Валентина Гагарина, когда он узнал все это», — уклончиво-пелевинским тоном сообщает комментатор; да уж, можно себе представить, что вы почувствуете, когда узнаете, что ваш пять лет назад похороненный брат работает на Рязанском радиозаводе. «В архиве завода хранится приказ № 360 по предприятию, где было сказано: „…Поддерживая патриотический почин коллектива цеха № 8 и на основании решения общего собрания цеха, приказываю:
I. Записать в списки личного состава цеха № 8 слесарем-сборщиком Юрия Алексеевича Гагарина и Владимира Сергеевича Серегина.
Бухгалтерии начисленную по нарядам на имя Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина зарплату перечислять ежемесячно в Рязанское отделение Госбанка СССР на текущий счет № 170039“.
Другим приказом в коллектив другого цеха, тоже слесарем-сборщиком, зачислялся космонавт Владимир Михайлович Комаров» (37).
«Советский космос» и связанные с ним нелепости, слишком откровенно напоминающие архаические ритуальные практики, часто давали поводы для сатирических высказываний, однако загробная жизнь компании космонавтов могла бы послужить сюжетом не то что даже для современной версии «Подпоручика Киже», а для космических «Мертвых душ».
«Наивный и чистый парень из Гжатска так и не научился ходить по мягким коврам кремлевских коридоров. Хлопать дверью в кабинете Д. Ф. Устинова, конечно, не надо было. Кремлевская чернь стала показывать на космонавта номер один пальцами и шипеть в его адрес шепотом, который был слышен везде. Это еще более распаляло Гагарина, делало его чужим среди своих, отдаляло от него даже близких друзей и товарищей. Дистанция между общественным положением космонавта номер один и его окружением увеличивалась год от года по обыденным, объективным и закономерным основаниям… остался один на один с чернью, как Пушкин» (5).
Многие думают, что фонарь — это обычный фонарь, будто у них в кабине висела лампочка в стеклянном контейнере или даже в абажуре; на самом деле, фонарь — это термин: прозрачная часть кабины самолета, служащая для обзора; она состоит из откидной и сдвижной частей.
У автора этой книги есть запись, на которой Леонов очень громко произносит: «ТУДУХ!» — а потом: «ТУТУХ!»
Читателю небесполезно будет узнать, что из органов чувств зрение у П. Р. Поповича было развито лучше, чем слух — так, может быть, он и не слышал под Киржачом второго хлопка, зато несколько раз, позже, видел НЛО — о чем и любил рассказывать, смакуя подробности. Характерно, что в 1990-х годах Павел Романович возглавлял уфологическую ассоциацию СНГ, а также секцию аномальных явлений при Федерации космонавтики России.
Между прочим, Белоцерковский также, обращая внимание на кое-какие вопиющие ошибки Каманина, задается вопросом: «Возможно, Николай Петрович не случайно при жизни не опубликовал эти сведения?» (4).
Читать дальше