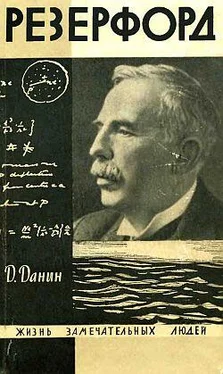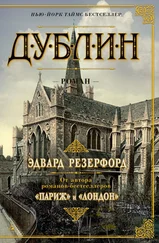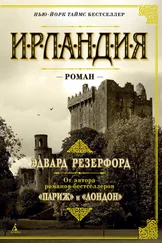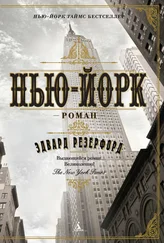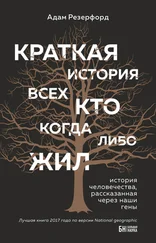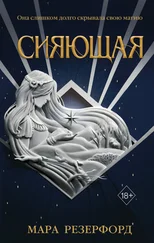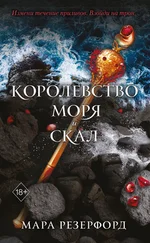Максвелл дал математическое описание этого круга незримых физических событий. Его теория появилась за семь лет до рождения Эрнста. Вначале непонятая и принятая даже иронически, она была одним из самых бесстрашных и самых красивых созданий физико-математического гения. Существование электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света, вытекало из нее само собой.
Замысливший создание уловителя этих невидимых волн, молодой Резерфорд подумал о магнитной составляющей в силовом электромагнитном поле: раз в любой точке эфира, до которой дошли возмущения, возникает быстро колеблющийся «магнитный маятник», нельзя ли заставить этот маятник работать? А что значит — работать? Самое простое — намагничивать железо. Если это возможно, то вот он, принцип будущего детектора волн Максвелла — Герца!..
Рассказал ли он о своем замысле на том заседании Научного общества, когда ему милостиво ассистировали м-р Пэйдж и м-р Эрскин? Неизвестно. Неизвестно и другое: вполне ли созрел тогда этот замысел. Одно очевидно: он приступал к своей диссертации уже одержимый пьянящей идеей.
Сегодня мы назвали бы ее идеей радиосвязи!
Оттого-то все досаждающее оборачивалось в конце концов светлой стороной. Не батарея Грове была хороша, и не машина Фосса, и не рутина измерений, и не фантазии Биккертона, и не расставания с Мэри под зимним ветром… — замысел был хорош! Хороша была идея! Чаяния были хороши, и молодость, и жизнь, и вера в себя, и вера в будущее…
Все получалось, как он и надеялся втайне. Исчезали самые серьезные сомнения. Магнитный маятник высокочастотного разряда работал: намагничивал стальные иглы! Или размагничивал, если предварительно они были доведены до магнитного насыщения. Это было для него всего важнее: такой эффект легче поддавался количественному наблюдению. И он проникся уверенностью, что электромагнитные колебания, приходящие издалека, будут работать точно так же, как быстропеременное поле внутри стеклянной трубочки его соленоида.
Неспроста дошел он до регистрации частот в 500 миллионов колебаний в секунду: он знал, что с электромагнитной радиацией именно такой частоты (это волны длиною в 60 сантиметров) проводил свои заключительные эксперименты Герц. Впрочем, наш новозеландец высказал надежду, что железные намагниченные иглы будут «откликаться» на любую частоту — от 100 до 1 000 000 000 колебаний в секунду. Он верил в универсальность задуманного им детектора электромагнитных волн.
Лодж, Томсон, Троубридж… — у них не было цели, которая влекла молодого Резерфорда. И даже у Генриха Герца ее еще не было. Он не успел этой целью задаться. Просто не успел. Его, тридцатисемилетнего, не сумели спасти от заражения крови. Он умер слишком рано. Это случилось 1 января 1894 года, когда в Европе стояла зима, а в Новой Зеландии лето, и бакалавр искусств Резерфорд в Пунгареху как раз готовился к работе над своей магистерской диссертацией.
Так не оттого ли, что у его предшественников не было вдохновляющей цели, их данные о магнетизации высокочастотным разрядом оставались туманными и противоречивыми? Не было повелевающего стимула для устранения противоречий и прояснения тумана.
А двадцатитрехлетний Эрнст Резерфорд не мог не дойти до конца — ему было зачем идти!
Разумеется, он тогда не знал, что вышел на старт интернационального радиокросса. Не знал, что на другой стороне планеты, в глубине Финского залива, в Кронштадте, на маленьком острове вблизи Санкт-Петербурга, молодой инженер-физик уже многое сделал, чтобы вскоре осуществить передачу и прием первой в мире радиограммы: «Генрих Герц». Не знал, что в Италии уже мучился той же дурманящей идеей юноша, чьи успехи и предприимчивость должны были впоследствии сыграть немалую роль в его, Эрнстовой, судьбе.
Резерфорд не знал, что вышел на старт вторым.
Первым был Александр Попов. Третьим — Гульельмо Маркони.
Все это выяснилось позднее. Гораздо позднее. Попов и Маркони, выбрав иной путь воплощения того же высокого замысла, блистательно исполнили свою историческую миссию. А он?
То, что вышел он на старт не один и не первый, оказалось везением человечества: дело Максвелла — Герца было прекрасно завершено другими, а напор пионерской мысли новозеландца понадобился истории для иных начинаний. Его гений словно бы освободился для иных великих дел. Это тоже выяснилось позднее.
Единственное, о чем уже и тогда можно было догадаться, это что он — из солдат, несущих в своем ранце жезл маршала. Ему следовало с далекого фланга прибыть к центру боя: покинуть маленькую новозеландскую Англию ради большой, заокеанской.
Читать дальше