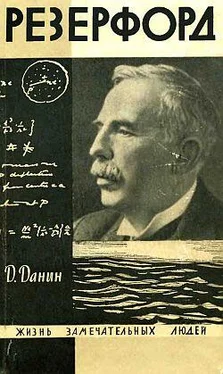Им самим сначала показалось не слишком значительным то, к чему они вдруг пришли. «Взгляд, слегка отличный от прежней точки зрения… в некоторых отношениях предпочтителен», — так написали они в последней главке второй статьи. Но это «слегка» вело к глубоким последствиям.
Он решили: а что, если отбросить предположение, будто новый атом сперва рождается в недрах старого и лишь потом начинает постепенно излучать энергию? Есть иная возможность: излучение сопутствует трансмутации! Испускание луча — сигнал о совершившемся акте превращения атома. Это одновременные события. И потому-то радиоактивное излучение состоит из всплесков радиации. Каждый всплеск — знак того, что один из атомов претерпел превращение.
Многое, казавшееся дотоле непонятным или случайным, получило закономерное объяснение. И прежде всего экспонента затухания радиоактивности.
Вот образец, скажем, тория-X. Это скопление одинаковых атомов. Внутри каждого действуют одни и те же причины, вызывающие в конце концов его превращение в атом эманации. И каждый атом переживает свою судьбу совершенно независимо от других, иначе температура, давление и прочие внешние условия влияли бы на интенсивность излучения. Но если каждый атом претерпевает превращение сам по себе, то для этого процесса решительно неважно, сколько всего атомов участвует в игре. Важна только вероятность превращения. Опыт показывает: за четыре дня радиация тория-X убывает наполовину. Что это значит? Только одно: свойства атомов тория-X таковы, что на протяжении этого времени у каждого второго из них появляется шанс пережить перестройку — «дозреть до трансмутации». Было, допустим, 200 миллиардов атомов. За четыре дня 100 миллиардов претерпят превращение. За следующие четыре дня каждый второй из оставшейся половины, в свой черед, переживет трансмутацию: излучение затухнет еще наполовину… Словом, убывающая геометрическая прогрессия — 200, 100, 50, 25 миллиардов — тут возникает естественно. Каков бы ни был еще неизвестный механизм превращения атомов, статистический закон экспоненты появляется тут по необходимости, сам собой. А почему торию-X требуется четыре дня на то, на что эманации достаточно одной минуты, это уже другой вопрос. Когда-нибудь физика на него ответит. Но не раньше, чем проникнет в самые глубины атомов…
Научные сочинения, как и литературные, обладают порой подтекстом. И когда это случается, из-за глухой стены безлично объективных выкладок и выводов неожиданно доносится человеческий голос самого исследователя. И становится «слышно» его умонастроение. Вот как заканчивалась еще в первом варианте историческая работа Резерфорда и Содди:
…Кажется, нет ничего безрассудного в надежде, что радиоактивность доставит средства получения информации о процессах, совершающихся внутри химического атома.
Эту фразу, со всей ее не до конца подавленной эмоциональностью, они сохранили и в рукописи для «Philosophical magazine». Материал новых умозаключений стократно усилил ее звучание: теперь можно было выкинуть «кажется», настолько очевидно стало, что нет ничего безрассудного в высказанной надежде.
15
Так произошло открытие естественного превращения элементов.
Так возникла теория радиоактивного распада. Так пришел конец старой атомистике.
Подходит к концу и рассказ о великолепном сотрудничестве Резерфорда и Содди. Но окончание этого рассказа будет, к сожалению, не таким вдохновляющим, как начало. (Впрочем, разве не было и вначале малоприметных, но явственно темных черточек, предвещавших впоследствии дурную погоду?)
Для хроникальной полноты картины осталось досказать немногое.
Совместное научное наследие Резерфорда и Содди не исчерпывается двумя вариантами двух статей о радиоактивных каверзах тория и той маленькой заметкой, что ускользнула от внимания Пьера Кюри. За их двойною подписью появились еще четыре работы. Они не содержали новых великих открытий. Но довольно и того, что в них на расширенном материале подтверждалась «теория дезинтеграции материи». Все тот же «Philosophical magazine» без промедлений опубликовал и эти четыре работы. Две — в апреле, две — в мае 1903 года.
А Резерфорда и Содди в это время уже разделял океан.
В феврале оксфордец навсегда простился с Монреалем. Он отправился в Штаты, и оттуда — в Англию. Он увозил с собою лучшие воспоминания о Мак-Гилле. Ему шел двадцать шестой год, и окружающие уже не принимали его за юнца. К полученной в Канаде научной степени магистра искусств он зачем-то по-прежнему прибавлял свое гордое — «Оксоун». И хотя не сбылась его честолюбивая мечта о профессуре, жаловаться ему было не на что. Свершилось нечто несравненно большее: он возвратился в Англию знаменитостью.
Читать дальше