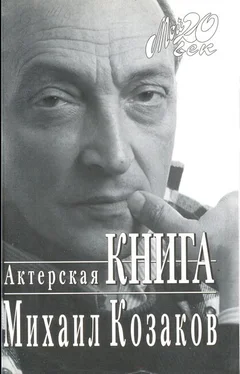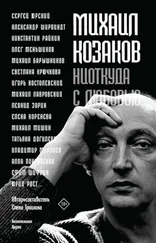Студия МХАТ — предмет мечтаний многих абитуриентов, жаждущих стать актерами, — ютится в доме рядом со зданием старого МХАТа. Тогда у большой двери было три вывески: музей МХАТа, школа-студия МХАТ (вуз) и общественная столовая, которая размещалась на первом этаже. На втором — аудитории школы-студии.
Общая атмосфера школы-студии тех лет напоминала, наверное, атмосферу пажеского корпуса. Все было чинно, строго. Правила внутреннего распорядка соблюдались отменно: а чуть что, сразу в кабинет к директору Вениамину Захаровичу Радомысленскому, «папе Вене», «ВеЗе», как его именовали студенты.
В. 3. Радомысленский, бывший учеником К. С. Станиславского по Музыкальному театру, где он то ли учился у него, то ли с ним сотрудничал, безусловно, вправе называть школу-студию своим детищем. Организованная во время войны по инициативе Немировича-Данченко, о чем папа Веня любил рассказывать на общих собраниях, желая подчеркнуть тем самым прозорливость Немировича, его уверенность в исходе войны и заботу о будущем Художественного театра, — словом, школа-студия была вручена молодому тогда Радомысленскому.
В. 3. Радомысленский, ВеЗе, папа Веня, «Веня — старая лиса», руководил вузом при МХАТе в самые разные времена. За тридцать с лишним лет, что он возглавлял студию, сменилось не одно руководство театром, а он — оставался.
Когда на первом курсе на занятиях по русской литературе у В. Крестовой я стал спорить и доказывать, что Достоевский не «мракобес», а великий писатель, стоящий в одном ряду с Толстым и Чеховым, она вынуждена была подать на меня докладную. Шел 1952 год, я в присутствии курса противоречил официальной точке зрения, и Крестова решила себя обезопасить. Назревал крупный скандал. Но папа Веня блокировал его, приняв соломоново решение: устроить комсомольское собрание курса и не выносить сор из избы. Все обошлось. Я отделался легким испугом и выговором за поведение…
Вообще «петербургские» замашки мне еще долго мешали жить. К восемнадцати годам, что я прожил до переезда в Москву, в голове у меня накопилось всякое разное, противоречивое, в чем мне тогда трудно было разобраться. Да и теперь нелегко.
Отец мой, Михаил Эммануилович Козаков, родился в конце прошлого столетия в еврейской семье в Дубнах под Полтавой. Судя по тому, что фамилия дореволюционного деда была Козаков, он был выкрест. Может быть, первоначально она звучала «Хозак», потом «Козак» и при крещении Козаков? Я мало знал о прошлом отца, а он не утруждал меня рассказами, ссылаясь на то, что детство свое описал в романе «Девять точек». На мой взгляд, в своих повестях 20-х годов «Абрам Нашатырь», «Попугаево счастье», «Человек, падающий ниц», «Повесть о карлике Максе» и других, которые теперь не переиздаются, он такой, каким был, — умный, бесконечно добрый, искренний человек и хороший писатель.
Учился отец в Киевском университете на юридическом. Революционно настроенный студент, он принял участие в революции. Начав писать, перебрался в Петербург. Его произведениями заинтересовался Горький. Хвалил. Отец с ним был знаком и переписывался.
Был делегатом Первого съезда писателей. К тому времени напечатал свой самый крупный роман «Девять точек» — о февральской революции. Он замечательно знал историю, особенно русскую. Был влюблен в литературу, отличался удивительным бескорыстием, а потому его любили товарищи по перу.
Он никогда не переоценивал своего таланта. И в завещании просил сохранить в семье «скромный труд — дело всей моей жизни». А жизнь у него была нелегкая. Он в молодости заболел диабетом в тяжелой форме. Сам кололся инсулином три раза в день. Издавался мало, а семья была большая: слепая бабушка Зоя Дмитриевна, мать моей мамы Зои Александровны Никитиной; трое сыновей: Володя, Боря и я, все от разных отцов; няня Катя и кухарка Стефа. А потом еще нянины сестры. Все мы жили под одной крышей на канале Грибоедова в писательской надстройке дома 9, кв. 47.
Мама всегда работала: то в институте ветеринарных врачей, то в Литфонде ленинградского отделения Союза писателей, то в издательстве «Искусство», алиментов за братьев не получала. Сама оставляла мужей и, забрав детей, уходила к следующему, гордо отказываясь от материальной помощи. Писатель Никитин, отец старшего, Вовки, хотя и жил благополучно, матери в этом вопросе перечить не стал. А Борькин отец, москвич, директор 1-й образцовой типографии Наум Михайлович Рензин, бывал в нашей семье и меня любил, на руках носил, как гласит семейное предание. Он даже перед своей смертью предлагал маме помощь, но она отказалась. Очень гордая женщина была моя мать. И все мужья ее очень любили. Н. М. Рензин, когда его в 1936-м исключили из партии, позвонил из Москвы и попросил мать срочно приехать к нему. Мать поехала. Встретились. Она его спросила, что стряслось. Он ей ничего не сказал: так, мол, неприятности, и предложил ей деньги для Борьки. Она говорит:
Читать дальше