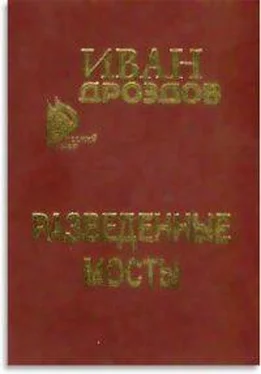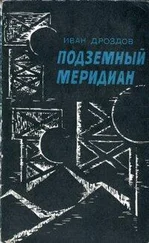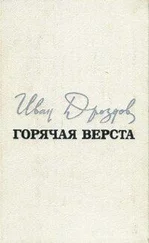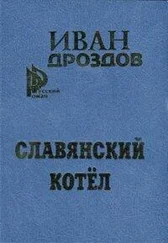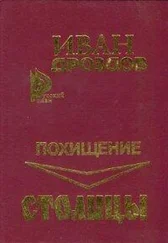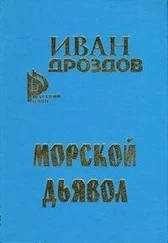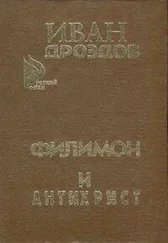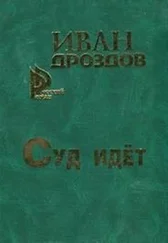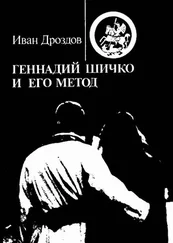Тут надо признаться, что я и вообще-то склонен преувеличивать значение своих промахов и проступков, особенно в случаях, когда они продиктованы не самыми высокими побуждениями, и это беспокойное свойство ещё более обострилось у меня с тех пор, когда мои книги заметила церковь и милостиво обласкала меня своим вниманием. Я больше стал бояться, как бы нечаянно не совершить грех, стал больше думать о Боге, о той вечной жизни, которая ждёт каждого из нас. И хоть мой духовник старец Адриан сказал, что мне не обязательно соблюдать все обряды, но и всё равно: я стал чаще посещать церкви, зажигаю свечи за упокой и за здравие близких мне людей, и хоть не часто, но причащаюсь. А когда встречусь со старцем Адрианом или с отцом Владимиром, священником Рождественского храма, то и поделюсь с ними тайнами своего сердца, послушаю их мудрые советы. Служители церкви уполномочены самим Богом на делание добра — им и доверяешь, к ним тянешься душой.
Стал вспоминать, в какой из книг я рассказывал о своей жизни в голодные тридцатые годы, — да, рассказывал, и поведал немало, но все свои злоключения я «подарил» героям своих книг, всюду угадывается моя собственная жизнь, но лишь угадывается, а системно и толком я о своих «университетах», о партизанских наскоках на науку не рассказал, а надо это сделать, надо наконец «во всём признаться» и тем как бы поставить свою душу на место.
Итак — биография. Не учился в школе. Почему не учился? Как такое могло случиться, если с моего поколения началась в России эпоха всеобщей грамотности? Да, мои сверстники, голопузая ребятня побежала в школу, и я, едва мне исполнилось семь лет, с волнением переступил её порог и проучился две-три недели, но в конце сентября наступили холода, и я по причине отсутствия одежды прервал своё образование.
Не дремал и враг; много он расставил мин на пути моего поколения, много жертв от нас потребовал. Военные историки подсчитали: Великая Отечественная война из сотни моих сверстников — ребят, рождённых в 21-м, 22-м, 23-м и 24-м годах — из сотни лишь три счастливца в живых оставила. А сколько людей покосили голод, репрессии, раскулачивание!
В начале тридцатых годов прошлого столетия по русской деревне прошёлся каток реформ, — их делали большевички в кожаных тужурках, из той же неуёмной породы, что и Грефы, Кохи, Жириновские, Хакамады и прочие Явлинские да Гайдары, что и теперь стоглавым огненным змеем налетели на Россию. В сусеках нашего дома под метёлку вымели муку, зерно и крупу, со двора свели корову, овец и свиней. Орудовали отряды милиции; им помогали головорезы из породы бездельников. Помню, как мы, младшая часть семьи, — а семья состояла из двенадцати человек, — залезли на полати, свесили оттуда русоволосые, синеглазые головки, смотрели и ничего не понимали. Мама билась на полу в истерике, отец сидел за столом, опустив на грудь голову.
Деревня наша Слепцовка, бывшая некогда собственностью писателя Слепцова, стронулась с места, по единственной улице неспешно двигались повозки с домашним скарбом, с малыми детишками. Взрослые плелись сзади. Уезжали. Куда?.. Неизвестно. Куда глаза глядят, туда и ехали. То была осень 1932 года. Наступал 1933-й, страшный и голодный.
Наш отец Владимир Иванович отправлял взрослых ребят на заработки. Старших сынов Дмитрия и Сергея посылал в Тамбов к мастеру валяльщику валенок. Семнадцатилетней сестре моей Анне и пятнадцатилетнему брату Фёдору сказал:
— Поезжайте в Сталинград на строительство Тракторного завода. И Ванятку с собой возьмите — город не даст ему пропасть.
Мне едва исполнилось восемь лет. Страшно было представить, что поеду в большой город со звучным и грозным именем Сталинград.
Приведу здесь начальные строки моего романа «Ледяная купель». Там этот драматический эпизод нашего отъезда из деревни. По сюжету романа персонажи другие, но сам отъезд описан именно таким, каким он мне и запомнился:
«Буланая измождённая лошадь с трудом тянула санный возок по весеннему бездорожью.
— Ну-у, пошла! — взмахивал кнутом Фёдор, рослый парень лет двадцати. Привалившись спиной к стенке возка, сидел Артём — младший брат Фёдора… По обочине дороги шёл их отец Владимир Иванович Бунтарёв. Нескорым и нетвёрдым шагом следуя за санями, он временами останавливался и смахивал с побелевшего лица крупные капли пота. Владимиру Ивановичу нездоровилось, в глубокой печальной думе опустил он голову.
Фёдор поворачивался, говорил:
— Ступай домой.
Читать дальше