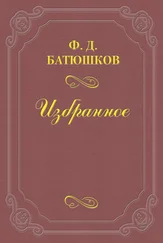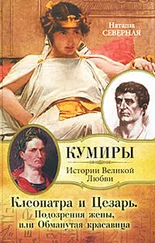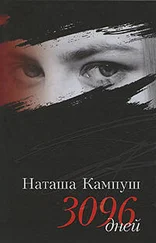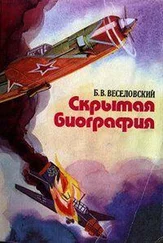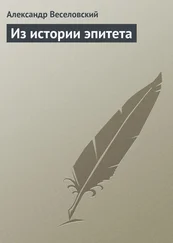Итак, в 38 лет, Веселовский становится признанным историком. По отношению к другим ученым – уже поздно, а по отношению к самому себе – в свой срок. В этой десятилетней работе он вырос и созрел, прошел долгий путь поисков, чтобы наконец начать создавать свой мир в истории и свое понимание истории. На этот счет есть интересное высказывание: “Мудрый человек живет, следуя своему сердцу, опираясь на свою природу, полагаясь на дух, при том, что каждое из них поддерживает другое” (7, с. 34).
“Один из немногих, – скажет о нем историк В.Б. Кобрин, – кто остался участником развития науки на многие годы после своей смерти” (11, с. 3). Его труд в истории был титаническим. Что ж, особые способности требуют и особых затрат энергии (20, с. 136). Одним из первых он осуществляет целую серию работ по генеалогии, впервые применяет ее методы для изучения земельных владений феодалов. Генеалогия позволила Веселовскому проследить судьбы землевладения отдельных боярских семей, изучить процесс деления крупных вотчин в семейных разделах. В частности реконструировал историю дворянского рода Пушкиных, предков великого поэта. Веселовский первым ввел в историческую науку данные топонимики – науки о географических названиях. Восстановил географию средневековой Руси, составил атлас карт ХІІІ-XVII вв., написал историко-географический очерк «Окрестности Москвы XIV–XVI вв.». Внес существенный вклад в развитие и применение в исторических исследованиях – антропонимики, науки о личных именах. Составил «Ономастикон» – обширный свод сведений о древнерусских некалендарных именах и происходящих от них фамилиях, включающий около 6 тыс. антропонимов, с указаниями на этимологию и время упоминания в источниках (11, с. 24–25). Веселовский становится известен не только как знаток истории финансов, феодального землевладения и крестьянства, но и, как археограф, обогативший историческую науку значительным количеством не известных ранее исторических источников. По поручению Академии наук в 1917 г. он напишет академический разбор работы В.К. Клейна «Угличское следственное дело о смерти царевича Дмитрия». За эту работу Веселовский получит от Академии наук золотую рецензентскую медаль. Ему принадлежат значительные источниковедческие работы – «Духовное завещание Ивана Грозного как исторический источник», «Топонимика на службе истории» и др. Им издано большое количество документальных материалов – «Акты подмосковных ополчений и земского собора 1611–1613 гг.», «Арзамасские поместные акты 1578–1618 гг.» и др.
Во внутренней жизни и характере Веселовский был закрытым одиноким скептиком, с колоссальной работоспособностью. Эти грандиозные затраты энергии одного человека, способствовали новому осмыслению и познанию мира, его развитию и преобразованию. Однако усилий ученого-трудоголика не хватало: «Созревание исторической науки подвигается так медленно, – напишет впоследствии Веселовский, – что может поколебать нашу веру в силу человеческого разума» (6, с. 22).
Веселовский причислял себя к числу «монографистов». Одним из условий успеха научно-исследовательской работы он считал ее «планомерность». Неоднократно ратовал в печати за повышение качества научных работ и ответственности историка перед собой, перед наукой, перед обществом. «Главным тормозом развития науки, – считал он, – не столько малочисленность монографий, сколько не вполне удовлетворительное выполнение некоторых из них» (18, с. 163). Поэтому Веселовский стремится поднять значение и усилить действенность научной критики. Словом, он поставил вопрос о «контроле ученого мира» над исследователем, который, развивая в себе «чувство самоконтроля», должен предоставить в распоряжение других всю свою лабораторию. Признавая «неустранимость субъективного элемента» в научном труде, в котором многое «зависит от индивидуальности исследователя, от его приемов работы над источниками и от манеры излагать результаты своей работы», Веселовский тем не менее сформулировал несколько общеобязательных требований к авторам монографий; это «научная добросовестность, выдержанно критическое отношение и скептицизм к источникам» (18, с. 162).
Он не признавал «истории человеческого общества без живых людей» и сам уделял внимание «истории в лицах». Всегда выступал против односторонних оценок. Ратовал за комплексный, целостный подход к прошлому. Л.В. Черепнин считает, что источниковедческим приемам его методологии был присущ формально-юридический подход к изучению исторических источников и исторических явлений. В научной работе Веселовский исходил из принципа «никакое глубокомыслие и никакое остроумие не могут возместить незнание фактов» (18, с. 164). Призывал историков не приспосабливаться к вкусам читателей, а всегда строго придерживаться фактов. Он не уставал повторять, что методика исследовательской работы – это серьезное, трудное и ответственное дело; предъявлял строгие требования к приемам анализа терминологии. Обширно использовал статистический материал. «Нередко выбор темы, – считал Веселовский, – определяется интересами современности, которые побуждают историка искать в прошлом объяснения для настоящего или уроков и указаний для будущего» (6, с. 293). «Представители точных наук, – говорил он как-то на одной из своих лекций, – сейчас работают путем опыта и путем непосредственного наблюдения, и благодаря этому они стоят на твердой почве, чем в значительной степени объясняются успехи точных наук. Историкам приходится иметь дело только с документами; они не могут наблюдать непосредственные факты и события в виде общего правила, тем более они не могут делать никаких опытов, и наблюдают они историю и познают историю только через документы, т. е. косвенным путем» (6, с. 222–223). Судьба любит играть людьми, и вскоре для Веселовского наступят времена, которые во многом изменят его отношения к истории, а он станет свидетелем грандиозных исторических событий, которые произойдут не на бумаге, а наяву.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу