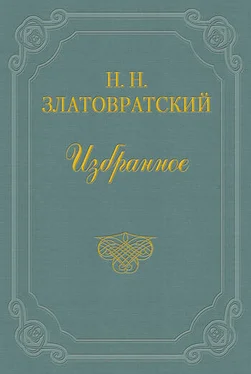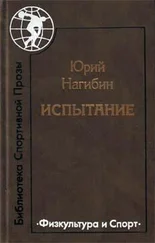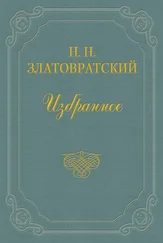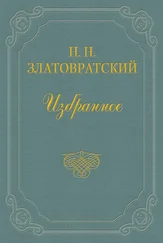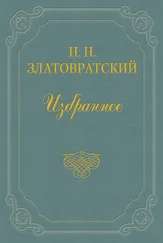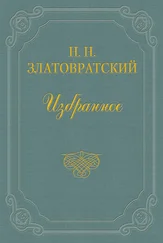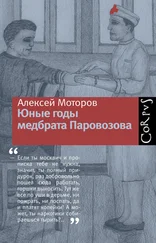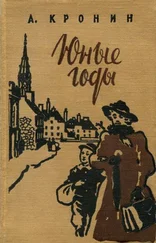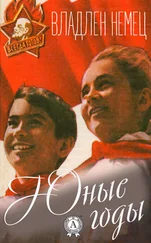Когда я теперь вспоминаю об этом времени, мне представляется, что все произошло с невероятной неожиданностью и быстротой. Был такой теплый уют близ пылавшего ярким светом очага, в лучах которого так весело и жизнерадостно расцветала и зрела молодая жизнь, и вдруг неожиданно налетевший вихрь задул это веселое пламя жизни, оставив только пепел, под которым лишь слабо тлели уцелевшие искры… В действительности, конечно, все произошло вовсе не так эффектно. Если бы я в то время был более опытен, наблюдателен и чуток, то, несомненно, заметил бы, что все произошло, как теперь говорят, вполне «закономерно»: здесь разгоралось веселое пламя жизни, а где-то, тайно и подспудно, работали в то же время темные силы…
Я уже говорил раньше, что самый ярый из наших «эмансипаторов» – Н. Я. Д. еще до появления манифеста 19 февраля должен был быстро и окончательно «стушеваться», исчезнув надолго совсем с поля нашего зрения, под стремительным напором местных крепостников, угрожавших ему, как передавали тогда втихомолку, даже отравлением. По крайней мере он сам лично, лет десять спустя, подтверждал мне это, рассказывая о травле, которую подняли против него и которая заставила его бежать из нашей губернии.
Говорил я уже и о том, какое удручающее впечатление произвело на наш молодой интеллигентский кружок известие о смерти Добролюбова, имя которого было связано с надеждами на создание «независимой» газеты в нашем городе. Через год после этого дядя Сергей, по окончании курса в университете, был послан «заслуживать» стипендию военным врачом в Новгород, а его ближайший друг, мой прежний учитель, был выслан «на выслугу» в еще более дальнюю от нас губернию. Разлетелось вместе с ними, по разным стогнам и весям, много и другой близкой разночинской молодежи, как бы провиденциально призванной стихийно рассеиваться по лону земли русской.
В конце концов и добрый гений нашей семьи, главный вдохновитель ее идеалистических настроений, дядя Александр, с каждым годом становился все нервнее, печальнее и раздражительнее и, невидимо подтачиваемый страшной болезнью, принужден был перевестись на службу в еще более далекий от нас Кавказский край, в Ставропольскую губернию, где быстро и погиб от скоротечной чахотки…
Так, день за днем, быстро сиротела наша скромная интеллигентская храмина. Понятно, что это не могло отражаться благотворно и на настроении нашей семьи. Отец становился все печальнее и озабоченнее, так как семья росла, а между тем нравственная поддержка тех, с кем прежде чувствовалась крепкая духовная связь, все больше и больше таяла. Особенно удручающее впечатление произвела неожиданно быстрая смерть дяди Александра, этого нервного, порывистого, не всегда уравновешенного, но необыкновенно чуткого, нежного и любящего человека. Вслед за ним вскоре умер и мой любимый добродушный дед, которому дядя Александр был обязан многими лучшими сторонами своей души.
Так отрывались и от моей юной души наиболее дорогие связи, не рождая еще взамен себя новых интимных привязанностей. Я все больше начинал чувствовать себя покинутым на распутье…
Между тем то понижение общего настроения, которое сказалось на нашей семье, во многих отношениях не было исключительным в описываемый период. Объявление манифеста 19 февраля, а главным образом опубликование «Положения», провело окончательную грань между прошлым и ближайшим будущим: всяким упованиям и страхам был положен решительный предел. Любопытно, что «Положением» никто в то время не остался вполне доволен. Кто мечтал о лучшем, был недоволен слишком большими уступками «старому»; крепостники находили его «безмерно-радикальным»; крестьяне относились к нему с скептическим недоумением. Но для всех было ясно одно, что дело так или иначе решено бесповоротно, и теперь все сводилось исключительно к одному, чтобы все внимание уже обратить на начинавшуюся ликвидацию старого, употребив все силы на использование ее в своих интересах. И для успеха этого дела не стояли ни за чем: одни – открыто и нагло, другие – втихомолку и лицемерно. Недаром в то время создался тип «мировых посредников первого призыва», особая доблесть которых заключалась в том, чтобы хоть сколько-нибудь сдерживать хищнические и плутовские инстинкты бывших крепостников и придать ликвидации вид хотя бы некоторой законности. Но это им далеко не удавалось.
До какой степени эти ликвидационные интересы, в первые годы после освобождения, отодвинули все другие, можно было судить по нашей библиотеке. Успех ее в первый год, как я говорил, превзошел самые радужные ожидания. Но не прошло двух-трех лет, как отношение к библиотеке круто изменилось, особенно с наступлением «ликвидационного периода» после 19 февраля. Мне часто приходилось слышать, как в ответ на напоминание отца кому-либо из дворян о возобновлении подписки они на ходу махали рукой и говорили: «Э, батюшка, теперь не до этого… Куда нам!.. Лишь бы быть живу…»
Читать дальше