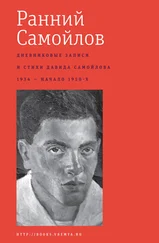Г. Медведева
Наброски к предисловию (о свободе)
I
Приступая к писанию, заранее могу себе признаться в том, что не могу изложить нечто положительное и стройное — политическую концепцию или систему нравственной философии.
Ни того ни другого я не изобрел, да и рано, видимо, изобретать.
Хотим мы все одного — свободы. Но толком еще не знаем, что такое свобода и как ее к себе и другим прилагать. Потребность свободы у нас есть лишь в воображении, всегдашнем русском воспаряющем воображении, а образцов мы не знаем и ищем их либо глядя назад, либо кося вбок. А по спине у нас все тот же российский холодок — не стоит ли там мужичок с топориком, который тоже по — российски жаждет свободы, но вбок не косит.
Мужичка уже, впрочем, нет. Но холодок все тот же. За спиной стоит некто похуже — молодой, без царя и без бога, длинноволосый, с папироской, хмельной и озлобленный, с гитарой, битник — разбитник, настоенный на «Московской особой», всероссийский жесткоротый дружинник, шаманщик, дом — культурник, танц — площадник, матерщинник, руковерт, футбольщик, хоккейщик, киношной, стенописец, будкогадец, на — тройшник, на — двойшник, на — одногошник. Стоит не мужик — порождение земли и истории, а наш с вами отпрыск, наше собственное порождение.
Он тоже свободы жаждет. Или власти. Ему все равно.
Какой же свободы мы хотим? И какая нам нужна?
Для России американизм не годится. Мафия вместо партии, и вороватость вместо бизнеса. Еще при нашей бедности. Безнаказанно убивать президента — это еще не достижение.
Когда нет ни политической концепции, ни нравственного уклада, есть одна свобода, необходимая России, — свобода выговориться. Выговориться, отматериться, откричаться, отспориться, отречься.
Только после этого образуется нечто. Привыкшие к молчанию недостойны свободы.
Единственная цель моего писания — выговориться. Свободны говорящие. Ведь речь — это практика мысли.
Учить нам рано. Надо учиться речи.
Выговорилась Россия, пожалуй, дважды. Где‑то в 1905–м, вокруг манифеста, и еще в 1917–м. с февраля до октября.
Потом ждала, когда же можно будет высказаться. Право это было как бы завоевано кровью: «Сестры и братья, друзья мои!». И идеалист Пастернак, и циник, продувной, продавшийся барин, прожженный, ни во что не верящий Алексей Толстой поверили: можно будет сказать, высказаться, выразиться, выговориться.
Вот что писал Толстой:
«Народ, вернувшийся с войны, ничего не будет бояться… Китайская стена довоенной России рухнет».
Китайская не рухнула. И русская стоит. Может, пока стоит китайская — стоять и русской.
И не прав был продувной барин. Народ на войне не боялся. А потом опять забоялся.
Стена, конечно, все же рухнула, но недорушилась. Проломы в ней образовались в 1953 году.
И хлынула в эти проломы безудержная речь. Чья? Народа?
Нет. На первых порах выговаривались мы устами веселого, осмелевшего Никиты Сергеевича. Не народ, а он первый осуществил безудержную потребность неконтролируемой речи.
Надо ему отдать справедливость — он первый заговорил.
И вправду, это была первая свобода — свобода выговориться.
Он заговорил. А мы продолжили. Он не разумел. А мы уразумели.
И уже не унять нашей речи.
И не замолкнем, пока не скажем.
Уже такое наболтано, наговорено, насказано, наплетено, наоткровенничано, что так запросто не расхлебать.
II
Так писал я совсем недавно в предисловии к «Памятным запискам». Но иное время быстро настало, и уже иное желание подвигает меня к писанию.
Высказаться и отругаться — уже высказано и отругано. Теперь уже важно, о чем говорится и кто говорит и как.
Уже не объединяемся мы в ругательстве и в отречении, в неприятии предыдущей жизни, а разделяемся в предвидении, в расчислении будущей нашей жизни. Мы не живем уже прошлым, не живем настоящим, а жадно тянемся к будущему, ибо утонуть может Россия в скуке настоящего.
Недавно в том была суть, что мы заговорили. Но заговорил и отговорил незабвенный Никита Сергеевич, мало кровей пустивший диктатор, мир праху его, Пугачев из Центрального Комитета.
Он распрощал нас с пугачевщиной. Пугачевщине уже в России не быть. Не поверим мы уже самозванцам, не поверим власти, пошедшей на власть.
Власти нашей долго еще стоять. И говорению нашему, может быть, придет свой срок. Ну и что же? Раскрылся уже, распустился уже клубочек, спустился уже со стола, и кто захочет его распутать, не запутался бы сам.
Читать дальше

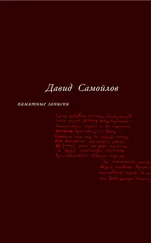

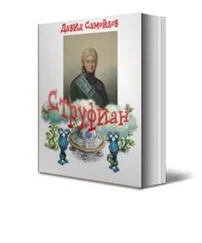
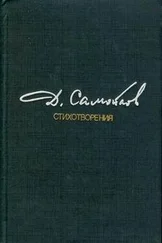

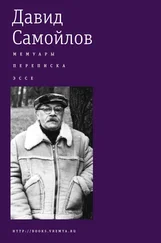
![Давид Самойлов - Ранний Самойлов - Дневниковые записи и стихи - 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/431447/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres-thumb.webp)