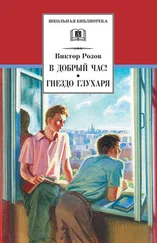Я и сейчас некоторых особенностей спектаклей Эфроса не понимаю. Вот, например, есть у меня в пьесе «Ситуация» ремарка, говорящая о том, что на стене висит патент на изобретение, которое сделал герой пьесы Виктор Лесиков, и есть даже несколько реплик по поводу этого висящего на стене свидетельства об изобретении. А Эфрос выдумал какую‑то огромную, чуть ли не в рост человека, этакую черную гладильную доску, которую персонажи все время таскают по сцене, а иногда с остервенением бросают на пол, отчего вздымается столб пыли, всегда так ясно видимый зрителям в свете выносных прожекторов. (Ох сколько раз видел я в театрах эти клубы пыли при хлопанье приятеля по плечу, при ударе ладонью по столу, я уж не говорю — по дивану, и прочих эмоционально — ударных всплесках, идущих непременно под смех зрителей: эх, мол, не могли пыль ликвидирован., комики!) Зачем эта доска — патент, аллах ведает! Но раз она режиссеру нужна, значит, быть по сему, авось доживу до того времени, когда и это пойму, а пока терплю. Или катание ширм в том же спектакле. Актер играет — играет роль, вдруг схватит ширму и перевернет. Я, бытовик — натуралист, как‑то спросил актера, играющего в этом спектакле, что он думает и чувствует, когда в очередной раз крутит ширму.
— Ничего. Эфрос велел, я и кручу, — был мудрый ответ.
Или в спектакле «Мой бедный Марат». Первый вход Марата в свою когда‑то покинутую и теперь крепко истерзанную войной ленинградскую квартиру сделан спиной. Марат пробирался сквозь обломки дома, прыгал через провалы лестницы, нашел родную дверь и… вошел в комнату задом. Ведь он даже не знал, есть ли за дверью пол. Может быть, там, за порогом, от очередной бомбы образовалась зияющая пропасть. Помню, спорил я по этому поводу с Эфросом, спорил (а рядом еще сидел посмеивающийся автор пьесы — Алексей Николаевич Арбузов, то ли он надо мной смеялся, над моим куцым требованием реализма, то ли рад был, что я ругаю Эфроса, — мало ли отчего человек бывает счастлив), но так его и не переспорил. Да Эфрос и не очень любит полемизировать теоретически. Он сделал, внутри его была и есть своя логика для такого решения — и он спокоен. И хорошо! Он же никогда ничего не делает ради развлечения почтенной публики, как никогда не позволит себе переосмысливать классику на современный лад по принципу этакого лукавого и слегка подленького подмигивания в зрительный зал: дескать, понимаете, друзья — зрители, на что я намекаю, а? Аплодируют, хохочут — значит, понимают.
Эфрос хороший человек. В доказательство этого положения (кроме того, что он любит актеров) я приведу маленькие фактики.
Я не дал Эфросу пьесу, отдал в «Современник». Эфрос надулся. Надулся как пузырь. Я, конечно, не верил, что он на меня злится всерьез, по — настоящему, не мог в это поверить. Мы же с ним вместе столько пудов не только сахара, но и соли съели. Однако не звонит и слуху не подает. Однажды прихожу вечером домой и вижу — на полу валяется какая‑то бумажка, брошенная в дверную щель. Поднимаю, читаю: «Хотя я вас и ненавижу, но прочел эту вашу новую пьесу и плакал. Эфрос». Но не звонит и носу не кажет. Потом узнаю: эту пьесу он репетирует у себя на курсе в ГИТИСе, где преподавал в тот год. Думаю — позовет, когда поставит. Шиш! Не позвал. А со стороны слышу самые интересные суждения. Идти не хочу: раз не зовет, идти неловко. Года через два — три я напомнил ему об этом. Говорю:
— Что же не позвали?
— Я тогда на вас был зол.
Разве нормальные люди так злятся? Нормальный злой человек, уж коли обозлился, сразу все в тебе и ненавидит, и хоть «Гамлета» напиши — плюнет, разотрет и скажет: дрянь!
А как он занятно слушает пьесу, когда ему читаешь! Смеется во всех смешных местах. Смеется каким‑то странным, я бы сказал, подлым смехом: хи — хи — хи — хи — хи, но громко и искренне, именно там, где надо. И затихает, и грустит, и задумывается, и слезы на глазах. Иные слушают с лицом каменным, важным, умным. Эфрос — не умный, он талантливый.
Иногда он любит врать. Но только в порядке самообороны. Как‑то я ему пожаловался: ох, до чего же мне надоели эти звонки с просьбой выступить где‑нибудь. Никак не могу научиться отказывать. Виляю, виляю, а потом сдаюсь или переношу на другой месяц. Но в другом‑то месяце выполнить обещание надо!
— А вы не отказывайтесь. Говорите сразу: приду, и не приходите. Я всегда так делаю.
И верно, обманщик он порядочный. Если я еду на выступление и мне говорят: «Будет еще Эфрос», я знаю — не будет. И не ошибаюсь. А если он вдруг, вопреки моим прогнозам, является, я удивлен. А он хихикает. Он не любит выступать, он любит работать. До исступления, до истощения. Жажда работы у Эфроса всегда приводит мне на память слова Ивана Карамазова: «Я уж если припал к этому кубку, то не оторвусь, выпью до дна».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу