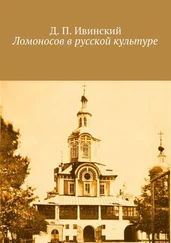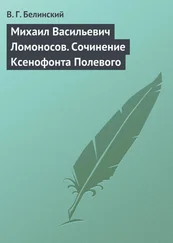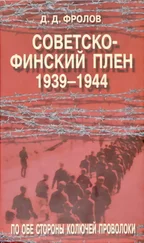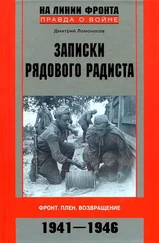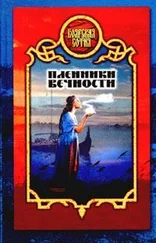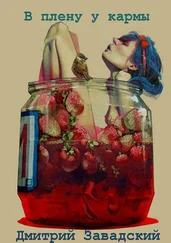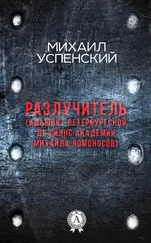Отношение германских властей к военнопленным всех стран, кроме СССР, регулировались Женевской конвенцией 1929 г., к которой Сталин отказался присоединиться, заявив: «Военнопленных у нас нет, есть предатели». Так, англичане и американцы, будучи в плену, продолжали получать денежное содержание, даже в повышенном размере, начислявшееся на их счета на родине, получали очередные воинские звания, посылки из дома, Красный Крест осуществлял денежные выплаты в специальной обменной лагерной валюте, обеспечивал почтовую связь, инвалиды и тяжело больные переправлялись на родину через нейтральные страны.
Приведенные здесь фотографии демонстрируют, как в соседних зонах, отделенных проволочной оградой, французы пьют пиво, англичане дают симфонический концерт жителям города, проводят футбольные матчи и состязания по боксу. Все это часто на виду у погибающих от голода и издевательств советских военнопленных.
Как это не печально и стыдно нашей стране, в Германии во многих городах существуют и активно действуют музеи и общественные организации, публикующие исторические материалы о лагерях военнопленных, поддерживающие в идеальном состоянии памятники и мемориалы, ежегодно проводятся акции под девизом “Nie Wieder!” (Никогда более!). Некоторые фотографии, свидетельствующие об этом, привожу здесь.
В нашей стране на ее территории, оккупированной фашистами, располагались лагеря военнопленных, отличавшиеся особой жестокостью. В первые годы войны оккупанты считали себя полностью свободными от любой ответственности перед мировым сообществом за свои преступления, ведь "победителей не судят", а в своей грядущей победе они тогда не сомневались. Но ни в Вязьме (лагерь № 230) и Смоленске (лагерь № 240), ни в Пскове (лагерь № 372) и Луге (лагерь № 344) вы не найдете памятных знаков на местах, где страшной участи подверглись десятки (если не сотни) тысяч советских воинов.
Моя биографическая повесть «Плен», рассказывающая о пережитом, касается лишь части всей проблемы этой мало-известной или совсем не известной части истории Отечественной войны. Дело в том, что к началу 1944 года, когда я оказался в плену, режим содержания военнопленных, по сравнению с 1941-1942 гг., значительно смягчился. Опасаясь распространения эпидемий дизентерии, тифа и туберкулеза на немецкое население через неизбежные контакты между пленными и лагерным персоналом, власти создавали в лагерях бани и пункты санобработки, стали выдавать "эрзац-мыло" (кусочки какого-то минерала, слегка мылящегося при соприкосновении с водой), в бараках были установлены печки, для которых выдавалось в минимальном количестве топливо. В то же время, продовольственный паек оставался столь же мизерным, совершенно недостаточным для поддержания жизни, издевательское отношение к пленным, как к "недочеловекам (untermenschen)", не изменились.
Операция по освобождению Мозыря и узловой станции Калинковичи.
Белоруссия, декабрь 1943 - январь 1944.
Скоро исполнится 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. В памяти ее участников сохраняются не только отдельные трагические эпизоды, но и непрерывная цепь событий, проходящая через все 1418 дней. И поневоле вызывают их недоумение, а часто и возмущение, то, что живущие рядом с ними члены уже третьего послевоенного поколения часто не знают о многих событиях, существенно повлиявших на ход военных действий.
Например, в одной из телевизионных передач, посвященных уже исполнившемуся 60-летию битвы под Москвой, было заявлено, что здесь гитлеровцы впервые потерпели серьезное поражение. Но, ведь на месяц раньше под Ростовом оккупантам был нанесен сокрушительный разгром , хотя и в несколько меньших масштабах, и действительно впервые они были вынуждены оставить захваченный ими крупный город! Почти забыты действия Красной Армии под Владикавказом, где была разбита превосходящая по численности и вооружению группировка противника, рвавшаяся к Баку, еще до завершения Сталинградского сражения!
Операция по освобождению Мозыря и узловой станции Калинковичи, о которой речь пойдет ниже, возможно не имела большого стратегического значения(?), но, по непонятным причинам, о ней не упоминается даже в официальном издании Истории Великой Отечественной войны (трехтомник «для служебного пользования»).
1.
Много ли известно рядовому бойцу о положении на участке фронта, где ему пришлось участвовать в боях? Выглянув за бруствер окопа, он видит рощицу или высотку, которую прикажут штурмовать, или откуда следует ожидать атаки противника, и не более. Лишь приблизительно, по надписям на дорожных указателях, мимо которых вели его фронтовые дороги, может он представить себе, куда занесла его военная судьба. Мне – радисту без рации и поэтому несшему службу телефониста в 11 гвардейском кавалерийском полку, была доступна более широкая информация, чем солдатам и сержантам «сабельных» эскадронов: поддерживая связь между подразделениями полка, из разговоров между штабом и командирами эскадронов я знал, что происходит, по крайней мере, перед фронтом полка. Но это – полоса, длиной не более километра, может ли это дать представление о происходящем на всем участке фронта?
Читать дальше