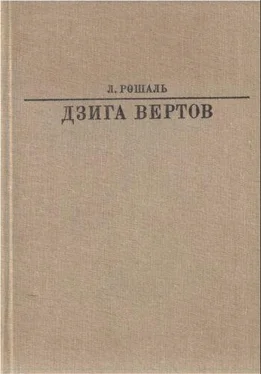Песня была хорошая. Музыку написали бр. Покрасс, слова — Лебедев-Кумач. Своей интимностью песня согревала официальный материал. В фильме было много парадов — военных, физкультурных. Из человеческих тел выстраивались пирамиды, они раскачивались волнами, походили на гигантские фонтаны. Демонстранты несли лозунги, кумачовые транспаранты, огромные портреты. «Спи, моя крошка, спи, моя дочь, — пела мать над колыбелью, — мы победили и холод, и ночь, враг не отнимет радость твою. Баюшки! Баю-баю!».
Статья о «Колыбельной» в журнале «Искусство кино» называлась «Красивый мир».
Вертов и Свилова добились в картине компактности, емкости, ритмической четкости монтажа.
Но у самого Вертова отношение к картине было двойственным.
С одной стороны, он считал ее прямым продолжением предыдущей ленты, называл «четвертой песней о Ленине». И одновременно в его собственных высказываниях о фильме заметна некоторая холодность.
Но потому, что в фильме порой преобладала «парадная», «красивая» сторона жизни, — это всегда ему не нравилось.
Но на этот раз Вертову не нравилось совсем другое — тип, жанр картины.
После «Трех песен о Ленине» Вертов понял, что достиг для себя некоего предельного рубежа в создании массовидных, своего рода обзорных картин о жизни страны в целом — от края до края.
Вертов пришел к этой мысли как раз в то время, когда жанр обзорных картин все настойчивее утверждал себя на документальном экране. Авторы фильмов вряд ли догадывались, да и вряд ли задумывались, кому они обязаны. Правда, на вертовские фильмы подобные картины чаще походили внешне — в них не всегда была та же зоркость, та же глубина мысли, но они были насыщены злободневным материалом, и это искупало многое.
Забылись упреки Вертову в беглости, в отсутствии живого человеческого материала, хотя некоторые картины второй половины тридцатых годов вообще-то отличались порой и беглостью и невниманием к изображению отдельных людей на экране. Машины, станки, турбины, домны заслоняли людей. С легкой руки Ильфа и Петрова о содержании подобных съемок говорилось: «Куют чего-то железного».
Вертов к такого рода обзорным фильмам просто-напросто утратил интерес.
После «Трех песен о Ленине» его захватил совершенно новый замысел, о нем он думал все оставшиеся двадцать лет жизни. Он мечтал его осуществить, не догадываясь, что время для осуществления еще не пришло.
Об этих последних двадцати годах написано много и разноречиво. Одни считали, что Вертов творчески иссяк. Другие, что он не сумел перестроить себя в условиях нового времени, оно выдвинуло перед хроникой новые задачи. Третьи, что во всем виноваты бездушные администраторы, они не проявили должного внимания к вертовским предложениям (так считал и сам Вертов).
В некоторых объяснениях была доля истины, в некоторых не содержалось истины вообще (например, что Вертов творчески иссяк).
Новаторство Вертова с самого начала его творческой жизни и до ее конца органически вытекало из новаторской сути Октябрьской революции, созданной ею духовной атмосферы. Вертов никогда не прекращал поисков. В силу тех или иных обстоятельств менялась их форма, методика. Он разрабатывал различные проекты производственно-творческого типа, писал заявки, сценарии, стихи, постоянно вел дневник — оставил исключительно ценное теоретическое и литературное наследство, актуальное и в наши дни.
Поэтому если в некоторых объяснениях и была доля истины, то истина в целом заключалась совершенно в другом.
«Три песни о Ленине» стали отсчетом нового рубежа. Плацдармом, с которого Вертов хотел начать новые поиски на экране, открывая новый киномир.
В дневнике Вертова со второй половины тридцатых годов появляется все больше записей — наблюдений над поведением самых разных людей.
В конце февраля сорок первого года он приехал на две недели в подмосковный санаторий Узкое и больше всего обрадовался возможности увидеть новых людей.
Он описывал известного изобретателя Александра Александровича Микулина и его жену Веру Тихоновну, академика Каблукова, знаменитого своей рассеянностью, своих соседей по комнате.
Вертов пишет о «странности» появившейся у него привычки, когда в голове застревают разные человеческие характеры, оказавшиеся в той или иной ситуации, а между тем странного ничего не было.
Это отголоски, частички, элементы новой художественной задачи, она захватывала Вертова все больше и больше.
Читать дальше