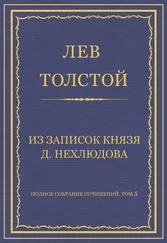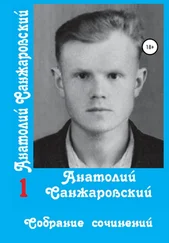Через десять лет после процесса, проезжая летом через Висбаден, я прочел в местных объявлениях о развлечениях, что в маленьком театрике Reichshallen представляются пластические копии с известных картин и что в «Сказке» Грефа позирует девица Берта Ротер…
Нужно ли говорить о крайней шаткости и даже опасности второй из экспертиз, которая была допущена по делу Грефа. Самая отправная ее точка неприемлема уже потому, что определение реальности фактов, содержащихся в поэтическом произведении обвиняемого, и вывод из них о его виновности немыслимы, ибо при этом необходимо совершенно забыть о роли фантазии и эстетического настроения. Когда «божественный глагол» коснется чуткого слуха поэта, он, по словам Пушкина, становится «смятения и звуков полн». Судить о впечатлении поэтического произведения, конечно, может всякий одаренный чувством и умеющий ясно о нем мыслить, но отделить фантазию от действительности не может никакой эксперт. Да экспертиза тут и не нужна. Если судья может судить о том, оскорбляет ли какое-нибудь произведение чью-либо честь или доброе имя, не нуждаясь в помощи экспертов, если он призван судить о безнравственности произведения, то и о содержании поэтического произведения он может судить сам. В предсмертном стихотворении «О, муза, ты была мне другом»… Некрасов говорит о «волшебных грезах». Как же можно втиснуть эти «волшебные грезы» в пределы экспертизы? Если по отдельным стихам судить о самом поэте, то против каждого из них можно легко составить целый обвинительный акт. Допускать такую экспертизу нельзя. Она невозможна и по субъективности выбора экспертов. Какой поэт может быть компетентным судьей другого поэта? Рассекание поэтических образов и мыслей холодным оружием судейского анализа принесет только вред истинному правосудию.
III
Долгое время наиболее прочно поставленной экспертизой после медицинской считалась экспертиза каллиграфическая. Она и встречалась чаще всего, главным образом по делам о подлогах различных документов, и играла нередко решающую роль. Иностранная практика представляет блестящие примеры такой экспертизы. Достаточно вспомнить громкое дело о вымогательстве эмигрантом, князем Петром Долгоруким, 50 тысяч франков у князя Воронцова под угрозой в сочинении о русском дворянстве произвести его род от какого-то проходимца, жившего в XVIII веке, а не от древней боярской фамилии. Вымогательное требование было написано в третьем лице, на отдельном листке, вложенном в письмо самого корректного содержания, подписанное Долгоруким. Оба документа были написаны на разной бумаге, разными чернилами и совершенно разным почерком. Но блестящий разбор адвокатом Матье этих документов и каллиграфическая экспертиза при парижском суде в окончательном своем выводе убедили судей, что и то и другое исходят от князя Долгорукого. Искажение почерка в вымогательной записке было произведено в совершенстве, но привычка писать букву А с своеобразным хвостиком, связывать воедино двойные S и отделять W от других букв, свойственная Долгорукому, взяла свое, и в конце записки несколько раз особенно ясно появились предательские хвостики, за которые и сам писавший был вытащен на свет божий. Другая выдающаяся каллиграфическая экспертиза была тоже произведена во Франции по поводу писем королевы Марии Антуанетты, изданных академиком Фелье де Конш и оказавшихся очень искусно подделанными. В моей практике такая экспертиза встречалась несколько раз. В известных делах игуменьи Митрофании, княгини Щербатовой и Маргариты Жюжан, обвиняемой в отравлении своего воспитанника, она играла очень важную роль. В последнем деле имел серьезное значение анонимный донос, приписываемый обвиняемой и адресованный градоначальнику, с изветом на семью Познанских, в которой Жюжан жила воспитательницей. Эксперт, учитель чистописания Буевский, изучая строки этого доноса, оставил старый способ сличения очертания букв и путем сравнения несомненного почерка Жюжан представил блестящую характеристику привычек писания — одинаковых у нее и у автора доноса. Иногда такая экспертиза направлялась на изучение свойства почерка, как это было, например, по громкому делу Мясниковых, обвиняемых в подлоге миллионного завещания от имени купца Беляева. Сведущие люди высказали, что дрожащий почерк, которым сделана подпись Беляева на завещании, не может принадлежать обвиняемому в этом Караганову, имеющему почерк твердый. С таким заключением я, исполняя обязанности обвинителя, не мог согласиться, находя, что дрожащий почерк может явиться результатом вполне понятного волнения и тревоги у лица, изготовляющего своею рукою подложную подпись и сознающего, что совершает преступление. В этом случае твердость обычного почерка не при чем. Наоборот, трудно предположить, чтобы человек, пишущий постоянно дрожащим почерком, мог на время так дисциплинировать свои физические и духовные силы, чтобы совершить подлог твердым почерком.
Читать дальше