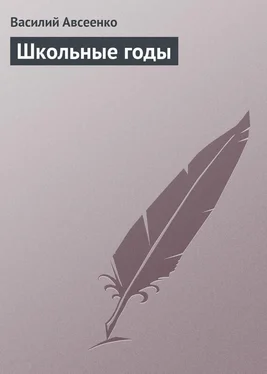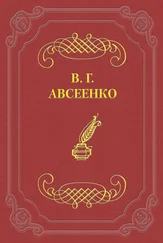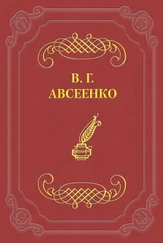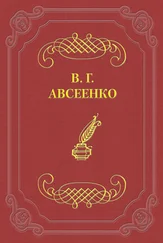Единственнымъ отраднымъ воспоминаніемъ за эти три года я обязанъ покойному учителю русской словесности, А. П. Иноземцеву. Это была очень даровитая личность, къ сожалѣнію рано унесенная смертью. Отличный знатокъ русскаго языка, человѣкъ съ правильнымъ и тонкимъ литературнымъ вкусомъ, А. П-чъ былъ совсѣмъ не на мѣстѣ въ гимназіи, гдѣ воспитанники состояли изъ поляковъ и малороссовъ, не только не умѣвшихъ правильно говорить по-русски, но даже неспособныхъ отдѣлаться отъ не русскаго акцента. Бывало онъ чуть не плакалъ съ досады, когда, напримѣръ, ученикъ скажетъ: «помочу перо», и въ цѣломъ классѣ не найдется ни одного, кто бы могъ его поправить. Мнѣ сдается, что самая смерть Иноземцева – отъ разлитія желчи – была подготовлена скукой провинціальнаго прозябанія и возни съ поголовною добропорядочною бездарностью. Ю. Э. Янсонъ, заступившій его мѣсто, человѣкъ очень образованный и талантливый, но еще очень молодой, не догадался принять въ разсчетъ умственный уровень учениковъ, но скоро убѣдился, что классъ только хлопаетъ на него глазами – и тоже огорчился. Впрочемъ, это случалось съ каждымъ учителемъ, который пытался хоть чуточку приподнять уровень преподаванія. Мнѣ было очень скучно, я учился гораздо хуже чѣмъ въ Петербургѣ, и хотя окончилъ курсъ хорошо, но безъ медали.
* * *
Въ университетъ я поступилъ въ сентябрѣ 1859 года. Въ то время историко-филологическій факультетъ въ Кіевѣ считался блистательнымъ. Его украшали В. Я. Шульгинъ, П. В. Павловъ, Н. X. Бунге; число студентовъ на немъ было очень значительно, благодаря главнымъ образомъ тому, что въ кіевскомъ университетѣ вообще было много поляковъ, сыновей мѣстныхъ помѣщиковъ, а польское дворянство всегда отличалось склонностью къ словеснымъ наукамъ.
Я не намѣренъ останавливаться на своихъ личныхъ впечатлѣніяхъ, у всякаго очень свѣжихъ и памятныхъ за эту пору первой зрѣлости, первыхъ серьезныхъ думъ, первыхъ заботъ и наслажденій. Я хочу только набросать силуэты профессоровъ и отмѣтить особенныя черты, отличавшія университетскую жизнь въ знаменательное для края и для всего русскаго общества время 1859–1863 годовъ.
Начну съ печальнаго сознанія, что печать провинціальности лежала на университетѣ въ той же мѣрѣ какъ и на гимназіи. Она выражалась и въ отсутствіи людей съ широкими взглядами, и въ слабой связи большинства профессоровъ съ литературными и общественными интересами, занимавшими Петербургъ, и въ подавляющемъ преобладаніи «обывательскихъ ординарностей», и во множествѣ мелочей – въ запоздаломъ появленіи какой нибудь книги, въ разнузданности сплетни, принимавшей тотчасъ самый уѣздный характеръ, въ старомодномъ слогѣ и въ невѣроятномъ акцентѣ большинства профессоровъ. Историко-филологическій факультетъ былъ значительно лучше юридическаго и математическаго, но я думаю что и на этомъ факультетѣ только двое могли назваться дѣйствительно талантливыми тружениками науки – В. Я. Шульгинъ и Н. X. Бунге.
Виталій Яковлевичъ Шульгинъ считался свѣтиломъ университета. И въ самомъ дѣлѣ, такія даровитыя личности встрѣчаются не часто; по крайней мѣрѣ въ Кіевѣ онъ былъ головою выше не только университетскаго, но и всего образованнаго городского общества, и едва ли не одинъ обладалъ широкими взглядами, стоявшими надъ чертой провинціальнаго міросозерцанія. Самая наружность его была очень оригинальная; съ горбами спереди и сзади, съ лицомъ столько же некрасивымъ по чертамъ, сколько привлекательнымъ по умному, язвительному выраженію, онъ производилъ сразу очень сильное впечатлѣніе. Я думаю, что физическая уродливость имѣла вліяніе на образованіе его ума и характера, рано обративъ его мысли въ серьезную сторону и сообщивъ его натурѣ чрезвычайную нервную и сердечную впечатлительность, а его уму – наклонность къ сарказму, къ желчи, подчасъ очень ядовитой и для него самого, и для тѣхъ на кого обращалось его раздраженіе. Послѣднее обстоятельство было причиной, что и въ университетскомъ муравейникѣ, и въ городскомъ обществѣ, у Шульгина было не мало враговъ; но можно сказать съ увѣренностью, что все болѣе порядочное, болѣе умное и честное, неизмѣнно стояло на его сторонѣ. Надо замѣтить притомъ, что при своей наклонности къ сарказму, при своемъ большею частью язвительномъ разговорѣ, Шульгинъ обладалъ очень горячимъ, любящимъ сердцемъ, способнымъ къ глубокой привязанности, и вообще былъ человѣкъ очень добрый, всегда готовый на помощь и услугу.
Какъ профессоръ, Шульгинъ обладалъ огромными дарованіями. Не рѣшаюсь сказать, чтобъ онъ былъ глубокій ученый въ тѣсномъ смыслѣ слова, но никто лучше его не могъ справиться съ громадною литературой предмета, никто лучше его не умѣлъ руководить молодыми людьми, приступающими къ спеціальнымъ занятіямъ по всеобщей исторіи. Критическія способности его изумляли меня. Въ мою бытность студентомъ, онъ читалъ, между прочимъ, библіографію древней исторіи. Эти лекціи могли назваться въ полномъ смыслѣ образцовыми. Съ необычайною краткостью и ясностью, съ удивительной, чисто-художественной силою опредѣленій и характеристикъ, онъ знакомилъ слушателей со всей литературой предмета, давая однимъ руководящую нить для ихъ занятій, другимъ восполняя недостатокъ ихъ собственной начитанности. Притомъ онъ въ замѣчательной мѣрѣ обладалъ даромъ слова. Его рѣчь, серьозная, сильная, изящная, не лишенная художественныхъ оттѣнковъ, лилась съ замѣчательною легкостью, и ни въ одной аудиторіи я никогда не видѣлъ такого напряженнаго всеобщаго вниманія. Но въ особенности даръ слова Шульгина обнаружился на его публичныхъ чтеніяхъ по исторіи французской революціи. Возможность раздвинуть рамки предмета и высокій интересъ самаго предмета, при отсутствіи тѣхъ условій, которыя неизбѣжно вносятъ въ университетское преподаваніе нѣкоторую академическую сухость – все это позволило талантливому профессору довести свои чтенія, по содержанію и по формѣ, до такого блеска, что даже пестрая, на половину дамская, аудиторія не могла не испытывать артистическаго наслажденія.
Читать дальше