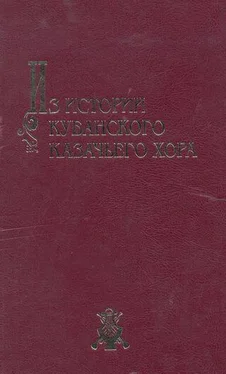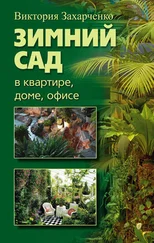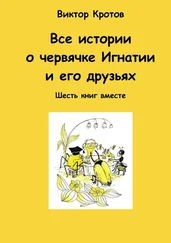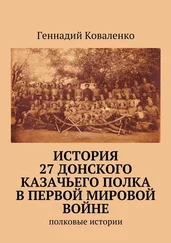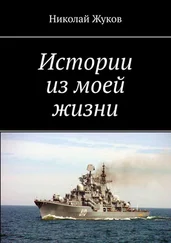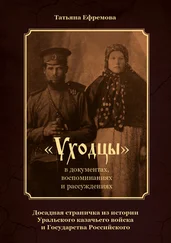Где‑то в 70–х годах XIX века наряду с мальчиками — казачатами в войсковой хор начали принимать и мальчиков из семей иногородних, что, конечно, намного увеличило возможности выбора лучших голосов в хоре.
Взрослые певчие в основном проходили действительную военную службу в войсковом хоре. Для детей же казарменная обстановка была очень тяжелой, а если учесть, что они в хоре не получали ни общего, ни достаточного музыкального образования и никаких умений, то им лучше было бы оставаться в своей семье.
Когда же голос у мальчиков менялся (мутировал) или ухудшался от непосильной нагрузки и отсутствия правильной постановки голоса, дети и подростки исключались из хора. Такова судьба мальчиков — певчих была не только в войсковом хоре, но и во всех хорах России.
Чтобы лучше представить положение мальчиков в хорах царской России XIX века, достаточно познакомиться с высказыванием Н. А. Римского — Корсакова о состоянии обучения и воспитания в Петербургской капелле, одним из руководителей которой он был с 1883 по 1893 год.
«Безграмотных… мальчиков, забитых и невоспитанных, кое‑как обучаемых игре на скрипке, виолончели и фортепиано, при спадении голоса большей частью постигала печальная участь. Их увольняли из капеллы, снабдив некоторой выслуженной ими суммой денег, на все стороны, невежественных и неприученных к труду. Из них выходили писцы, прислуга, провинциальные певчие, а в лучших случаях невежественные регенты или мелкие чиновники. Многие спивались и пропадали… Весь строй учебного дела, как по инструментальному классу, так и по регентской специальности, установленный автором «Боже царя храни» Львовым, никуда не годился. Надо было все переделывать или, лучше сказать, создать новое» [7] Римский — Корсаков Н. А. Л етопись моей музыкальной жизни. М.: Госмузиздат, 1935.
.
Музыкально — теоретические занятия как со взрослыми, так и с детьми проводились по инициативе руководителей хоров и не являлись обязательными. Аналогичное положение было и в войсковом хоре, где из многих регентов в XIX веке только М. И. Лебедев углубляет и расширяет познания певчих по музыкальной грамоте. А в одном из ведущих хоров России, в Придворной капелле, лишь М. И. Глинка, став преподавателем капеллы (1837–1839 гг.), с большим энтузиазмом взялся за вокальное и теоретиче — ское образование малолетних и взрослых певчих.
«…Я взялся учить их музыке, т. е. чтению нот, и исправить интонацию, по — русски — выверить голоса… Когда в первый раз явился я для преподавания с мелом в руке, мало нашлось охотников; большая часть больших певчих стояла поодаль с видом недоверчивым и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на это внимания, принялся за дело так усердно и, скажу, даже ловко, что после нескольких уроков все почти большие певчие, даже и такие, у которых были частные и казенные уроки, приходили ко мне на лекции» [8] Глинка М. И. З аписки. М.: Академия, 1930. С. 183.
.
В этой записи композитора обращает на себя внимание то значение, которое он придавал сознательному пению по нотам, и тщательности интонации, являющейся основой хорового пения.
Передовые музыканты России видели необходимость перестройки системы обучения в хоровых коллективах, являвшихся школами регентов и учителей пения. Кроме музыкально — теоретического обучения необходимо было введение общеобразовательных дисциплин, игры на музыкальных инструментах, трудовое воспитание. В период деятельности в Петербургской капелле М. А. Балакирева и Н. А. Римского — Корсакова там открылись общеобразовательные классы для малолетних певчих, было хорошо поставлено профессиональное музыкальное образование, организован оркестровый класс, большое внимание уделялось регентскому классу. Аналогичные мероприятия проводились в эти же годы в Московском Синодальном хоре (В. Н. Орлов, С. В. Смоленский, А. Д. Кастальский), в капелле графа Шереметева (Г. Я. Ломакин) и др.
Если в Москве и Петербурге эти положительные реформы с большим трудом пробивали себе дорогу, то что же можно было сказать о Екатеринодаре — провинциальном городе… Все прогрессивные нововведения доходили сюда с большим опозданием, да и некому было их поддерживать и проводить в жизнь. Если и были отдельные попытки изучения нотной грамоты, то они не поддерживались другими регентами, к тому же регенты часто менялись, некоторые пьянствовали, а основную работу за них вели старосты или наиболее опытные певцы из состава хора.
Читать дальше