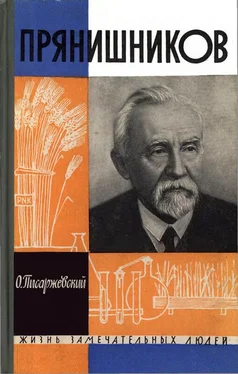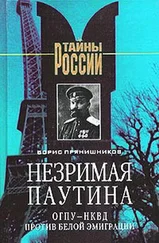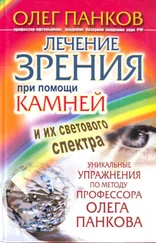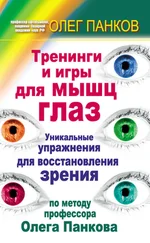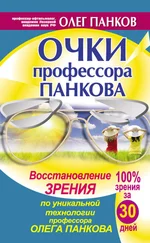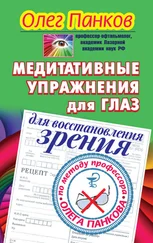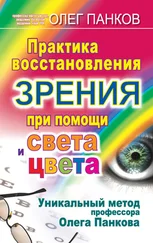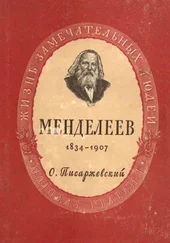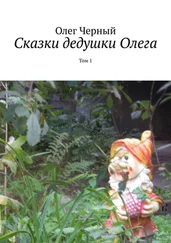В октябре 1941 года ученому пришлось по приказу правительства выехать из Москвы в Среднюю Азию. «Выезд был неожиданным, — продолжает свои воспоминания В. Д. Федоровская. — Не успели даже купить продуктов в дорогу. Тащился поезд до Ташкента одиннадцать суток, питание было скудное, постель жесткая. В довершение всего нас несколько раз бомбили. Но отец переносил все это бодро, как будто не замечал неудобств. Его интересы были сосредоточены на сводках по радио, которые передавались на станциях».
В Самарканде открылся филиал Тимирязевской академии, и здесь работа Д. Н. Прянишникова приняла новое направление, необходимое для данного момента и для данного края. В Узбекистан и Казахстан были переброшены с Украины сахарные заводы, и в Средней Азии появилась новая для нее культура — сахарная свекла. Прянишников читает для местных агрономов лекции по культуре сахарной свекловицы, осматривает колхозные поля, участвует в заседаниях обкома в Самарканде и Госплана в Ташкенте. Он разработал несколько вариантов «военного» севооборота для Узбекистана, в которые входили и сахарная свекла и пшеница, необходимая для края в военное время, причем урожай хлопчатника по этим вариантам не снижался по сравнению с довоенными севооборотами.
«Любовь к путешествиям, — вспоминает дочь, — сказалась и во время эвакуации: отец успел побывать и в Алма-Ате, где он выступал с докладами, на семьдесят шестом году еще делал большие прогулки и любовался живописными предгорьями Ала-Тау; съездил во Фрунзе и в Свердловск — на сессию Академии наук, побывал даже в затемненной Москве».
Вечер. Отложена рукопись последней книги «Азот в жизни растений и в земледелии СССР» — книги, которую Дмитрий Николаевич отделывал с особым тщанием; она отличается от других его произведений особенным изяществом изложения.
Родные, друзья, ученики пытаются оградить его от излишних забот. Он только отмахивается, работает еще более напряженно, чем обычно. Ему не до покоя. Война…
«Опять война, — так начинает Прянишников очередную статью, — опять Германия является агрессором, как и в 1914 году. Но другого противника имеет теперь Германия в лице СССР. Это иная страна, с новой социальной структурой, монолитная, несмотря на многонациональность, хорошо технически вооруженная».
Ни на минуту не покидает старого ученого вера в народные силы. Да, ему есть с чем посравнить «день нынешний».
«Старая Россия вступила в войну 1914 года совершенно неподготовленной в отличие от Германии, — он переходит к тому, что всего ближе ему самому. — Возьмем хотя бы химическую промышленность: азотная промышленность в России совершенно отсутствовала, и хотя царские генералы наивно думали, что они держат достаточные запасы селитры, но ее вскоре пришлось возить из Чили дальним путем через Тихий океан и Владивосток, что было возможно только потому, что Япония была не на стороне Германии. Точно так же в России почти не было сернокислотной промышленности. Германия же, обильно снабжавшая сельское хозяйство минеральными удобрениями, тем самым была подготовлена к войне: у нее было около сотни суперфосфатных (а значит, и сернокислотных) заводов, так как именно суперфосфат является отводным каналом для серной кислоты в мирное время. Стоило из Берлина дать сигнал по телефону, чтобы серная кислота потекла по иному руслу, — на заводы взрывчатых веществ. Царская же Россия только во время войны начала создавать сернокислотную промышленность. Делала это медленно, и более крупные размеры были достигнуты лишь к тому времени, когда уже никто не хотел больше воевать».
Патриарх русской агрономии с радостью и гордостью отмечал крутые перемены.
«Наша химическая промышленность очень молода, — писал Прянишников, — она родилась вместе с пятилетками, причем первое пятилетие можно сравнить с периодом утробной жизни, и только первый год второго пятилетия можно считать годом рождения нашей химической промышленности».
Ученый углублялся в подсчеты. Они радовали. Если принять во внимание, что суперфосфат, производимый в СССР, содержит больший процент действующего начала, чем в других странах, и сопоставлять по количеству этого действующего начала, то окажется, что по производству суперфосфата в 1938 году — более поздними данными Прянишников в то время не располагал — СССР уже вышел на первое место в Европе и на второе на земном шаре. А по общему количеству производимых туков вместо последнего места мы вышли на третье место в Европе и на четвертое на земном шаре.
Читать дальше