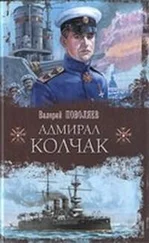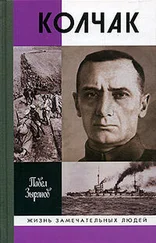Не будем пытаться дать однозначное объяснение. Среди факторов, оказывавших влияние на Александра Васильевича, не следует отбрасывать даже сознания объективной, а не надуманной вины или хотя бы провинности, коль скоро среди вероятных причин пожара на «Императрице Марии» было и бытовое разгильдяйство матросов, а сам Колчак в поданной 4 ноября записке писал об обилии на флоте молодых неопытных мичманов и связанном с этим «полном отсутствии авторитета и влияния офицеров на команду, создающем крайне серьезное положение на многих судах в отношении воспитания и духа команды» (сравним также мнение адмирала Григоровича, высказанное в письме Колчаку от 18 ноября: «… установившийся на этом корабле порядок службы и те грубые отступления от требований Морского устава, которые и Ваше превосходительство усмотрели по этому делу, могли не только обусловить собой возможность катастрофы… но и приблизить ее наступление, если таковая была неизбежной»). Сложно сказать, насколько такое положение вообще могло быть исправлено за неполных три месяца пребывания Александра Васильевича на посту Командующего (а Григорович писал ему 7 ноября: «Должен искренне и прямо Вам сказать, что никогда и ни у кого не было и мысли считать Вас ответственным за эту катастрофу. Не дело командующего флотом входить в детали службы отдельного корабля, у командующего флотом гораздо более ответственное дело, служба на корабле, его порядок – это дело командира…»); но обостренное чувство своей ответственности за ненормальный разрыв между офицерами и нижними чинами вполне похоже на щепетильного Колчака.
Не будем полностью отвергать и правомочность буквального прочтения Тимиревой того самого неизвестного нам письма Александра Васильевича. Более чем через год в одном из его черновиков вновь встречается упоминание о «каком-то чувстве, похожем на стыд, чувстве боязни вызвать у Вас презрительное сожаление или что-то похожее на это»; такая боязнь, конечно, была несправедливой, а может быть, и оскорбительной по отношению к Анне Васильевне, – но подобные эмоции редко анализируются человеком с рациональной точки зрения, да и сами они, как видно, далеко не были столь несправедливо простыми. Не случайно в процитированной фразе стыд стоит раньше боязни, ощущение собственного несоответствия самим же заданному высокому уровню – впереди опасений, что «сожаление» любимой женщины будет носить оттенок «презрения».
Но не забудем и еще об одном. Два с лишним года войны, на которой он почти всегда выступал в роли руководителя, до некоторой степени – хозяина человеческих судеб и жизней, скорее всего, просто не могли не усилить «милитаристской» составляющей в мировоззрении Колчака. В нем уже появляется «какое-то чувство, похожее на веру в индивидуальность военного начала», «индивидуальность войны». Это «индивидуальное начало» жестоко и несправедливо, но адмирал принимает и соглашается с его жестокостью, быть может, так же, как он принял бы жестокость бушующей стихии – как данность окружающего мира, посланную для испытания сил человека. «… Виноват тот, – напишет он впоследствии, подчеркивая слово „виноват“, – с кем случается несчастье, если даже он юридически и морально ни в чем не виноват. Война не присяжный поверенный, война не руководствуется уложением о наказаниях, она выше человеческой справедливости, ее правосудие не всегда понятно, она признает только победу, счастье, успех, удачу, – она презирает и издевается над несчастьем, страданием, горем, – “горе побежденным” – вот ее первый символ веры».
И в октябрьские дни 1916 года адмирал Колчак, должно быть, впервые ощутил на себе несправедливость этого правосудия. Сразу заметим, что оно действительно ближе к буйству слепой стихии или неотвратимой бессмыслице античного рока, чем к Христианской идее Промысла, – хотя и пути Промысла сокрыты от человеческих взоров. Колчак как будто попал под огонь противника, под удары Зевсовых молний, – или посчитал, что находится в таком положении. И более года спустя он напишет в черновике письма Анне Васильевне (и мы никогда не узнаем, попадет ли это в беловой вариант) еще об одной боязни – «боязни, чтобы даже тень или что-либо, имеющее отношение к моему несчастью, не могло бы коснуться того, что мне было самым дорогим, самым лучшим, – Вашего отношения ко мне».
И тогда уже кажется правдоподобным, что «жесткое и холодное» письмо Александра Васильевича, как и его декларированное стремление «остаться одному», действительно было сознательным – если и не разрывом, то отдалением от Тимиревой, но отдалением, вызванным вовсе не раскаяниями в собственной «слабости» (современные авторы высказывают догадку, будто Анна Васильевна «больше всего… боялась, что, выйдя из кризиса, он не простит себе проявленной слабости, о которой знает близкий ему человек, и это приведет к разрыву»). Адмирал Колчак был достаточно сильным человеком, чтобы позволить себе такую слабость; и, как сильный человек, он предпочел страдать («Были дни, когда я был близок к отчаянию и когда я желал забыть Вас, но результат получался совершенно обратный – это было очень больно, а боль и страдания совсем не способствуют забвению…»), чтобы не подвергнуть и ее тем ударам мистической силы, которые он принимал на себя, будучи воином, и «правоту несправедливости» которых был готов признать – но опять-таки только для себя лично.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу