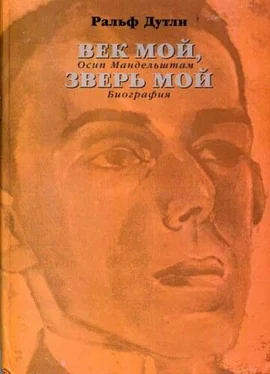«“Они воняют кишечными пузырями”, — подумал Парнок, и почему-то вспомнилось страшное слово “требуха”. И его слегка затошнило… […] Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух» (II, 475, 478).
Из охваченного насилием Петрограда Мандельштам в июне снова устремляется в Крым, где провел два предыдущих лета. Ничто не удерживает его в столице. Попытка получить университетский диплом завершилась полным провалом; 18 мая 1917 года он получает свидетельство об отчислении из университета. В Крыму он собирается прийти в себя, собраться с силами, осмыслить свою жизнь. В январе 1931 года он вспомнит в одном из стихотворений о своем тогдашнем бегстве:
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море (III, 43).
Незадолго до отъезда, в июне 1917 года, он пишет стихотворение «Декабрист» — воспоминание о подавленном 14 декабря 1825 года восстании декабристов на Сенатской площади, выступивших против русского самодержавия. Зачинщики были повешены, большинство участников сослано в Сибирь — на каторгу. Стихотворение вызывает в памяти старинную мечту о «сладкой вольности гражданства» (I, 127). Оно было опубликовано 24 декабря 1917 года в петроградской газете «Новая жизнь» — вскоре после октябрьского переворота, устроенного большевиками. Мандельштам пытается напомнить современникам и новым правителям о высоких идеалах декабристов. Не случайная, а намеренная связь: это стихотворение возникло ровно через сто лет после пушкинской оды «Вольность» (1817). Но в этом стихотворении, посвященном декабристам, «гражданские вольности» вовсе не торжествуют — заключительная строфа (которую с восхищением цитировал Маяковский!) говорит о том, что еще долго будет царить хаос:
Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея (I, 127).
Мировая война продолжалась. Между Россией и германской Лорелеей пролегла Лета, река забвения в подземном царстве. Временное правительство намеревалось продолжать войну во имя «революционного и национального чувства достоинства», но наступление, начатое Керенским 18 июня 1917 года, обернулось для русской армии поражением. Большевики же тем временем организовывали в Петрограде массовые демонстрации солдат и рабочих.
В Крыму Мандельштам находит себе пристанище то у одних, то у других петербургских знакомых. Денег у него нет. Сперва он едет в Алушту, потом, 22 июня, — в Коктебель (опять к Волошину). В конце июля снова в Алушту, затем в Феодосию, где и остается до конца сентября. Маленькая одиссея, но главное: он — в любимом Крыму. В начале августа он гостит в Алуште — на даче Саломеи Андрониковой, к которой обращено стихотворение «Соломинка» 1916 года. 3 августа, в день именин хозяйки, гости разыгрывают коллективно сочиненную шутливую пьесу «Кофейня разбитых сердец, или Савонарола в Тавриде». Мандельштам выступает в роли поэта-лакомки по имени Дон Хосе делла Тиж Д’Аманд — таково французское звучание его фамилии, переиначенной на псевдо-дворянский лад в «миндальный стебель» (tige d’amande) [124] См.: Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама / Издание подготовили Т. Никольская, Р. Тименчик, А. Мец. Stanford, 1997.
. Однако лето прошло не только в легкомысленных развлечениях.
11 и 16 августа Мандельштам пишет два стихотворения, навеянные мыслями о жизни и смерти, — самые прекрасные из его крымских стихов. Начнем с более позднего, таящего в себе магический образ асфоделий — лилий, цветущих, согласно древнегреческому мифу, в царстве мертвых, подземном Аиде:
Еще далеко асфоделей,
Прозрачно-серая весна.
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных загорелых рук (I, 129).
Мотив загорелых рук связан с воспоминанием о Марине Цветаевой и соблазнами эроса. В уже упоминавшемся стихотворении января 1931 года, где Мандельштам писал о «грядущих казнях» и бегстве на Черное море, говорилось и о «красавицах»: «И от красавиц тогдашних — от тех европеянок нежных — / Сколько я принял смущенья, надсады и горя!» (III, 43).
Одна из «нежных европеянок» — Вера Судейкина, обворожительная жена художника Сергея Судейкина, расписавшего потолок в «Бродячей собаке» — храме петербургской богемы. Гостивший у нее на даче Мандельштам написал (незадолго до 11 августа 1917 года) стихотворение, в котором царит классическое, неподвластное времени спокойствие. Поэт воссоздает бытие времени — момент «чистой длительности». Протяжный размер, античный анапест призваны передать спокойное течение времени, его плавный бег: «Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни» (I, 128).
Читать дальше