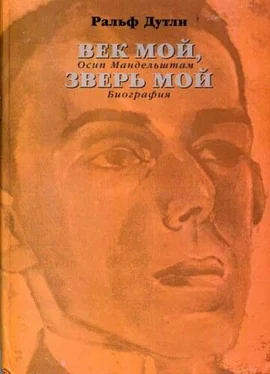«У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лемана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль hotel’я и англичанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне.
Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сантиментально.
Может быть, в этом виновно мое здоровье? Но я никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это» (IV, 15).
Истории литературы не чужда ирония: неподалеку от будущего пристанища своего младшего современника Владимира Набокова (отель «Палас» в Монтрё, где он проведет свои последние годы) юный Мандельштам предается «европейскому комфорту». Контраст усиливается, если вспомнить о «последнем пристанище» самого Мандельштама: барак 11 в исправительно-трудовом лагере «Вторая речка» под Владивостоком, где 27 декабря 1938 года он умрет от сердечного приступа, голодный и мучимый галлюцинациями. Да и вообще, весь жизненный путь Мандельштама имеет мало общего с «буржуазным, европейским комфортом». Тем более любопытно это признание юного денди.
Поскольку учеба в Петербургском университете оказалась до поры до времени недосягаемой целью, родителям Мандельштама пришлось изыскивать другую возможность. Еще в своем письме от 7/20 апреля Осип сообщал матери из Парижа: «А если меня не примут, то я поступлю в один из немецких университетов… и согласую занятия литературой с занятиями философией» (IV, 11). Действительно, немецкие университеты, по крайней мере, те из них, что не были, подобно боннскому или берлинскому, захвачены прусским духом, отличались куда большим либерализмом, нежели русские. Здесь не существовало трехпроцентной квоты для студентов-евреев. В 1912 году Борис Пастернак изучал философию в Марбурге у неокантианца Германа Когена. Выбор Осипа Мандельштама падает на Гейдельберг.
Во второй половине XIX века этот город — как ранее Геттинген — становится «Меккой русской науки» [41] См.: Birkenmaier W. Das russische Heidelberg. Zur Geschichte der deutschrussischen Beziehungen im 19. Jahrhundert. Heidelberg, 1995. S. 8–9. О пребывании Мандельштама в Гейдельберге см. подробно: Нерлер П. Мандельштам в Гейдельберге. М., 1994 (Записки Мандельштамовского общества. Т. 3).
. Временами русская колония Гейдельберга разрасталась настолько, что он производил впечатление русского провинциального городка. Особенно много студентов из России искало здесь прибежища после беспорядков 1861 года, когда царские власти на время закрыли Петербургский университет. Для Александра Герцена в его лондонской эмиграции и анархиста Михаила Бакунина этот город служил важным перевалочным пунктом: через Гейдельберг переправляли революционную литературу, обличающую русское самодержавие, журналы и листовки. В «Пироговской читальне» Гейдельберга русские студенты могли найти всю запрещенную в России литературу. Но Мандельштама это более не увлекало: он давно преодолел свои прежние революционные настроения. Молодой человек, поселившийся в конце сентября 1909 года в городе на Неккаре, был поэтом.
Он снял комнату в семейном пансионе «Континенталь», принадлежавшем капитанской вдове Йонсон, на «участке № 30». Сегодня это улица, носящая имя Фридриха Эберта, а мемориальная доска, установленная в 1993 году, напоминает о пребывании здесь Мандельштама. Пансион находился на самом краю старого города, у подножия Гайсберга. 1 ноября 1909 года «Йозеф Мандельштамм» (та же транскрипция, что и в сорбоннском формуляре) записывается слушателем философского факультета Гейдельбергского университета на зимний семестр 1909/1910 года. Интерес к знанию, пробужденный в Коллеж де Франс в 1907–1908 году, получает в Гейдельберге новый импульс: Мандельштам посещает лекции по истории французской литературы Средневековья, которые читает романист Фридрих Нейман, а также — его занятия, посвященные старо-французским и провансальским текстам. Есть основания полагать, что очерк Мандельштама о Франсуа Вийоне, напечатанный в 1913 году в четвертой книжке петербургского журнала «Аполлон», был в общих чертах написан в Гейдельберге. Во всяком случае, в книге очерков, озаглавленной «О поэзии» (1928), он датирован 1910 годом.

«Йозеф Мандельштамм» в Гейдельберге.
Анкета, заполненная при поступлении в Университет (1909)
Аарон Штейнберг, учившийся в это же время в Гейдельберге, вспоминает, что Мандельштам посещал и лекции гейдельбергских философов: Вильгельма Виндельбанда, читавшего о Канте, и Эмиля Ласка, читавшего новейшую историю философии [42] Воспоминания А. Штейнберга приводятся по кн. П. Нерлера «Мандельштам в Гейдельберге» (Там же. С. 31–34).
. А у искусствоведа Генри Тоде Мандельштам слушал лекции «Основы истории искусства» и «Великие венецианские художники XVI века». Здесь — зачатки его устойчивого интереса к этим темам. В одной из глав своего прозаического «Путешествия в Армению» (1931/1933), озаглавленной «Французы», Мандельштам своеобразно воссоздаст картины импрессионистов и постимпрессионистов. А Тициан и Тинторетто, венецианцы XVI столетия, неожиданно явятся в стихотворении «Еще далеко мне до патриарха…» (1931) во время одинокой прогулки по Москве:
Читать дальше