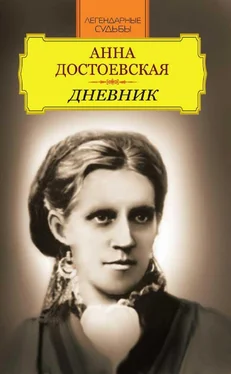У Павла Александровича была своя тактика: в присутствии Федора Михайловича он был ко мне необыкновенно предупредителен: передавал мне тарелки, бегал звать прислугу, поднимал салфетку, если я ее роняла, и пр. и пр. Федор Михайлович даже заметил раза два, что присутствие женского элемента, и в особенности мое (с Достоевскими, с Катей и Эмилией Федоровной он обходился запанибрата), благодетельно действует на Павла Александровича, и манеры его мало-помалу исправляются.
Но достаточно было уйти Федору Михайловичу из комнаты, как Павел Александрович изменял свое обращение ко мне. То он делал мне при посторонних нелестные замечания по поводу моего хозяйничанья и уверял, что прежде все было в порядке. То говорил, что я трачу слишком много денег, а деньги будто бы у нас «общие». То он изображал из себя жертву семейного деспотизма: он начинал разговор о тяжелом положении «сироты», который до сей поры жил в счастливом семействе и считался главным лицом. И вдруг чужой человек (это я-то, жена?) вторгается в дом, рассчитывает приобрести влияние и занять первое место в семье. Новая хозяйка начинает преследовать «сына», делать ему неприятности, мешать ему жить. Даже обедать он не может спокойно, зная, что за каждым куском, который он ест, следит негодующий подозрительный взор хозяйки. Что он вспоминает прежние счастливые годы и надеется, что они вернутся, что он не уступит своего влияния на «отца» и т. д. и т. д. Молодые Достоевские не умели за меня заступиться, а старшие поднимали его на смех, но этим и ограничивалась их защита.
Чтобы не уступить мне своего влияния на «отца», Павел Александрович стал почти каждое утро ходить в кабинет Федора Михайловича, как только он придет читать свою газету. Иногда случалось, что тотчас слышался окрик Федора Михайловича, и Павел Александрович выскакивал из кабинета слегка сконфуженный, говоря, что «отец» занят и он не хочет ему мешать. В другие разы он просиживал долго, возвращался с торжествующим видом и тотчас начинал что-нибудь приказывать трепещущей Федосье. Мне же после этих бесед Федор Михайлович всегда говорил: «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша!» Когда я спрашивала, чем же я обидела «Пашу» и на что он жалуется, Федор Михайлович отвечал, что «это такие все пустяки, что слушать их — уши вянут», но что он просит моего снисхождения к «Паше».
Меня иногда спрашивали: неужели я, выслушивая ежедневные дерзости и грубости Павла Александровича, видя его бесцеремонное к себе отношение, зная, что он наговаривает на меня Федору Михайловичу, — я все молчала и не умела поставить Павла Александровича на настоящее ему место? Да, молчала и не умела!
Не надо забывать, что, хоть мне и стукнуло двадцать лет, в житейском отношении я была совершенный ребенок. Я провела мою немноголетнюю пока жизнь в хорошей, ладной семье, где не было никаких осложнений, никакой борьбы. Поэтому некорректные поступки Павла Александровича в отношении меня изумляли, обижали и огорчали меня, но я на первых порах не сумела ничего сделать, чтобы их предотвратить. <���…>
И вот в таких-то неблагоприятных условиях проходили первые недели нашей брачной жизни: грубость и дерзости Павла Александровича, наставления Эмилии Федоровны, постоянное надоедливое присутствие неинтересных для меня лиц, мешавших мне быть с моим мужем, вечное беспокойство по поводу наших запутанных дел. Даже какая-то отчужденность, как мне казалось, от меня самого Федора Михайловича, зависевшая от обстановки нашей жизни, — все это страшно меня угнетало и мучило, и я спрашивала себя, чем же все это может кончиться? Припоминая мой тогдашний характер, я вижу, что могло кончиться катастрофой. В самом деле, я безгранично любила Федора Михайловича, но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту. Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы отплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что он для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять пред ним на коленях. Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу