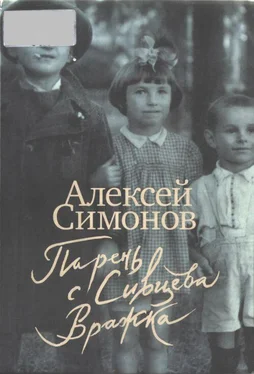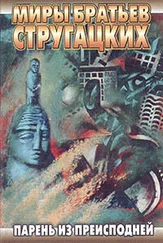А теперь о большом, отцовском «резервуаре памяти»… Странно, но именно в Переделкине я помню связанные с отцом события, людей или отдельные эпизоды больше никогда не повторявшиеся.
На даче, например, было три собаки. Одну из них, белую сибирскую лайку, звали Чижик, а вот насчет двух других возникли противоречия: сестра моя, Марья, которая на 10 лет моложе и на этой даче провела первые 6 или 7 лет своей жизни, утверждает, что две другие собаки были кавказские овчарки, в то время как моя собственная память клонится к сенбернарам. Впрочем, вполне возможен вариант, когда каждый из нас хорошо запомнил одну, полюбившуюся ему или подружившуюся лично с ним, собаку. И тогда вариант: два добродушных гиганта — сенбернар и кавказская овчарка — вполне возможен. Но больше никогда и нигде, ни в московских квартирах, ни на дачах в Пахре и Гульрипши, собак у отца не было. То ли отец не сильно любил собак, то ли (и это мне кажется более убедительным резоном) его перестала устраивать основная задача домашней собаки: отвлекать хозяина от его основных занятий. Частным случаем такого отвлечения служит и сторожевой лай. Наверное, можно сказать, что больше в этой жизни времени на отвлечения отец решил не тратить.
Точно так же я больше никогда не видел отца за картами. Только в эти годы, причем и в Переделкине, и в Гульрипши. В силу своей уникальности эта картинка до сих пор стоит перед глазами: праздный отец. Всю остальную жизнь он либо работал — сочинял, диктовал, писал письма, разбирал бумаги, готовился к диктовке, разговаривал с авторами, вел заседания, ходил ходоком в высокие кабинеты; либо отдыхал: готовил еду, вел стол, изредка играл в теннис, вытащенный последней его женой — Ларисой, ходил на лыжах, читал, наконец — тут, правда, мы упираемся в некоторые его занятия, которые могли быть и отдыхом, и работой. Из этой категории — книги и рукописи, выставки, спектакли.
Я помню, как однажды меня буквально оскорбили слова отца: «Эти две недели в Париже я отлично поработал». Только много лет спустя, наездившись сам и потеряв остроту (второго-третьего) восприятия чужой страны, я понял, что он прав и как он прав. Так вот отдыхающим (в смысле вышеперечисленного) я его видел много раз, а вот праздным, то есть убивающим время, только в эти годы. Даже странно — ведь по всем моим личным воспоминаниям и по вовсе не личным, а по сугубо официальным оценкам, количество возложенных в эти годы на него обязанностей и ответственностей было несусветное.
Задумываюсь над тем, в чем тут дело, и неожиданно прихожу к выводу, что убивание времени можно обнаружить еще и в официальной хронике присутствия отца на огромном количестве юбилейных мероприятий, где он представляет Союз писателей или депутатствует в Верховном Совете. Есть, есть в этих коротких кадрах, вошедших в разные хроникальные сюжеты конца сороковых — и до середины пятидесятых, а особенно в исходных, более обширных материалах, снятых для этих сюжетов, которые обнаруживались в Красногорске, в архиве, то же сосредоточенно-отсутствующее выражение лица человека, смирившегося в этот день с тем, что время умирает без толку.
В карты играли они с Валей вдвоем или втроем, когда приезжала Валина мама, Клавдия Михайловна Половикова, в просторечии — Роднуша. Играли, как я запомнил, в канасту, игру, где каждый за себя, колода вверх рубашками — на столе и перед каждым набранные им комбинации.
Меня, к тому времени освоившего правила и отчасти приемы игры в преферанс и покер, в игру не брали, и в канасту играть я так и не научился. Позднее, вспомнив эту картинку, я где-то раздобыл справочник карточной игры, нашел канасту, так что помню я правильно, была такая игра, но научиться играть в одиночку как-то не хватило ни времени, ни желания.
И еще — отцовские руки, которые держат карты. Тут уже карты — вещь случайная, просто вспомнилось в связи с канастой. А руки отца в те годы: тыльная сторона кистей в язвах, в красно-коричневой коросте заживающих и в очагах новых, похожих то ли на прыщи, то ли на нарывы. Все эти годы у отца была какая-то нервная экзема, и не увидеть, не заметить ее, даже для пацана, приезжающего или привозимого нечасто, было невозможно. После 1956 года я ничего подобного не помню. Отцовские руки — часть его жеста, их можно увидеть на многих фотографиях, экспрессивные и яростно выразительные. И руки его чисты. Не берусь этого утверждать, но надеюсь, что догадка моя верна. Мне кажется, что эта экзема — прямая реакция нервной системы на постоянный, причем усиливающийся раздрай между внутренними убеждениями и внешними обстоятельствами.
Читать дальше