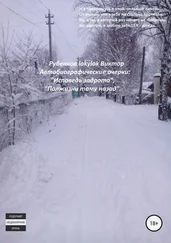Когда Серов поступил в Училище правоведения, дело приняло совершенно другой оборот. Он попал на самую настоящую свою точку. Трудно было бы ему желать почвы благодарнее и соединения условий, более благоприятных для развития его музыкальных способностей. По счастью, в то время еще не было в Петербурге консерваторий, и, значит, ничто и никто не наложил на мнения и вкусы Серова казенного цехового пошиба, неизбежного во всех консерваториях и безопасного лишь для натур очень сильных и самостоятельных, какою никоим образом не был Серов. Консерваторское направление и классы, наверное, изуродовал;: бы его с самого же качала. В училище, напротив, никто не вмешивался в его вкусы и настроение, и он мог итти, как самому ему было угодно. Вначале он выступил фортепианистом и на диво всем товарищам-музыкантам и самому Карелю, не могшему довольно нахвалиться им, исполнял a-moll'ный концерт Гуммеля с оркестром, считавшийся у нас по целому училищу геркулесовыми столпами творчества, глубокой значительности, красоты и трудности. Но скоро потом, не знаю по чьему желанию, отца своего, а может быть, и самого принца, он взялся за виолончель и стал ревностно учиться ее технике. Повидимому, он в то время, как и все, считал, что один инструмент другого стоит и что скрипка, что виолончель, что флейта, что кларнет, что фортепиано — все одно и то же, каждый инструмент в своем роде. На деле он должен был бы, кажется, прекрасно понимать, что фортепиано — это целый оркестр, да еще с прибавкой хора и солистов: ведь он на нем исполнял целого «Фрейшюца», целого «Роберта», целую «Фенеллу», и однакоже — огромная непоследовательность — согласился променять фортепиано на такой бедный и тощий, в своей односторонности, хотя и очень нужный в общей массе, осколок оркестра, как виолончель. Серов не имел также в то время еще ничего против учения и исполнения «пьес» соло, т. е. нелепейшего рода сочинений по всей музыке. Он преспокойно и преравнодушно сносил их, точно будто делом занимался. Впрочем, все самые ревностные труды его ни к чему не повели, и он никогда не был даже и порядочным виолончелистом. Самой большой помехой ему в этом всегда была рука — слишком малая, с короткими, кургузыми и слабосильными пальцами. Несмотря на все этюды и экзерциции, ежедневно ревностно проигрываемые в спальнях училища в продолжение бесчисленного множества часов в году, в антрактах между лекциями, пальцы у него никогда так и не растянулись, не приобрели ни силы, ни беглости, ни эластичности на струнах. У него хватило всего этого только для фортепиано, где система и условия совершенно другие. Одно только у него было несомненно хорошо, когда он играл на виолончели: прекрасный, полный тон. Но для этого необходимо ему было, чтоб пьеса непременно шла в порядочно медленном темпе и не было «пассажей», всегда ему недоступных. Всего чаще Серов играл, в училищных концертах, фантазии и вариации Дотцауера и других ему подобных ординарных немцев, а иногда просто переложенные для виолончели темы из немецких опер, например, из «Оберона», «Фрейшюца», в очень медленном темпе adagio. Однакоже и в этом роде он настолько отличался, что принц постоянно приходил в великое восхищение от его виолончельной игры, а также вообще от его музыкальности и незадолго до выпуска его из училища подарил ему прекрасный складной пюпитр из красного дерева, на футляре которого стоял вытисненный золотом стих Горация:
Onme tulit punctum, qui miscuit utile dulci.
(Всего достигает тот, кто смешивает приятное с полезным.) Значит, приятное, но не полезное — это была музыка; полезное, но не приятное- это было правоведение и прочие серьезные вещи! Вышло, однакоже, не совсем так: правоведение никогда не сделалось чем-то полезным для Серова, он проволочил это правоведение кое-как и впоследствии бросил его совсем, музыка же его вышла для него приятна, но редко полезна! Достигал же он и торжествовал на своем веку — редко и мало, вернее сказать, этого с ним почти никогда не случалось. Ничего он не достиг — даже самых коренных своих желаний по части музыки. Надеялся он и добивался от себя одного — вышло совсем другое. А когда впоследствии другие стали осуществлять в музыке то, о чем он мечтал в молодых годах, то сам-то он уже до того изменился к тому времени, что ему была противна и невыносима чужая инициатива, он стал ее преследовать с раздражением, как врага, как вред, как чуму, окислялся все более и более и, наконец, умер — от разрыва сердца!
Читать дальше
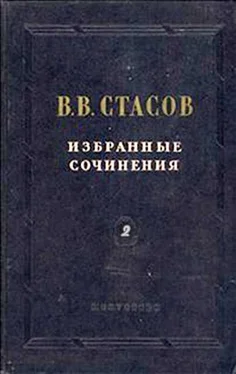
![П Джунковский - В глубь веков [Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III]](/books/31262/p-dzhunkovskij-v-glub-vekov-tainstvennye-priklyuche-thumb.webp)