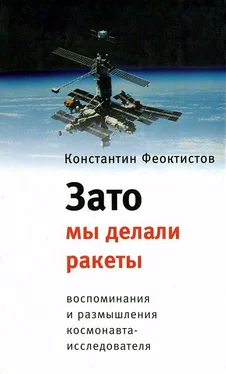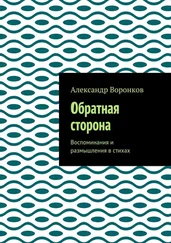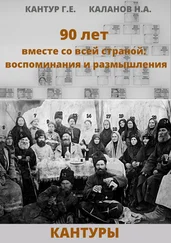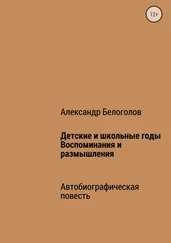Мы надеялись на многолетнюю работу станции, и хотелось внести вклад в это дело. Удалось уговорить взяться за разработку и изготовление основных элементов холодильной установки директора Омского машиностроительного завода Министерства нефтяного и химического машиностроения Шеина. Поехал, познакомился с энергичным и симпатичным человеком и к тому же, возможно, потомком знаменитой боярской фамилии. Уговаривать его не пришлось — достаточно было рассказать о наших намерениях.
Их министра Брехова тоже удалось уговорить дать разрешение на эти работы. Обычное дело — сначала соблазнить главного исполнителя, а потом и его начальство. Проект установки был разработан в нашем КБ под руководством В. С. Овчинникова, Д. И. Григорова и С. А. Худякова. Дело, в основном, приходилось вести с Сергеем Андреевичем Худяковым — он был неформальным лидером этого проекта. С большим трудом уникальную бортовую холодильную установку удалось сделать. Заводские испытания подтвердили ее работоспособность. И в полете она работала. Но мы сели в очередную калошу там, где никак не ожидали.
«Салют-6» опять понадобилось запустить к какому-то очередному торжеству (то ли к 60-летнему юбилею революции, то ли к какому-то очередному съезду партии). Уже весной все, что устанавливается на станции, должны были быть поставить к нам на сборку и испытания. А телескоп запаздывал. ФИАН явно не успел отработать в наземных условиях даже оптическую схему телескопа и уж тем более телескоп в целом. Тут обычная любимая позиция нашего начальника: «Ах, вы не готовы? Снимаем с борта! Есть постановление правительства о сроках запуска, и мы его нарушать не можем». Какое величие, какая власть! Но как можно было снимать главный инструмент станции с борта? Самим обессмысливать свою собственную работу! «А это вообще не ваше дело. За запуск станции отвечаю я!» Та же стандартная картина: главный противник — непосредственное начальство. Но и «в тылу» было не лучше. Слабый человек, Соломонович подписал заключения о допуске к установке явно еще не готового телескопа — о допуске к дальнейшим заводским испытаниям телескопа в составе станции, у которого в процессе испытаний обнаруживались неисправности, и заключение о допуске в полет явно не доработанного по выявленным неисправностям телескопа. А наши испытатели и контролеры? «Что вы от нас хотите? — отмахивались они. — Мы все знать не можем! Замечание отписано? Отписано. Допуск разработчика к дальнейшим работам есть? Есть! Все. Поехали дальше!» Они стали еще более послушными, чем при Королеве. Ведь они не могли не видеть состояния работ по телескопу. Это уже было прямое холопство. И конечно, случилось то, что и должно было случиться. Станцию запустили, инфракрасный телескоп в полете так и не работал. И в очередной раз — ничего, никаких практических результатов, которые хотя бы в малейшей степени оправдывали затраты и усилия, мы не получили.
Конечно, новый инженерный опыт, особенно опыт преодоления наших собственных ошибок, опыт приема на станцию шестнадцати экспедиций и двенадцати грузовых кораблей, более чем четырехлетний опыт эксплуатации станции, был получен. Но опять же, это всего лишь инструментальные достижения.
В 1980 году я предпринял очередную попытку полететь на станцию. Было и время, и предлог. Надо было провести ремонт системы терморегулирования — вскрыть (буквально — разрезать трубки) магистрали, заполненные жидкостью, и установить новые насосы во вскрытый контур. Мысль о полетах никогда меня не оставляла, но оторваться от своей работы было трудно. Годами не брал отпуск. Не покидало ощущение, что стоит отлучиться хотя бы ненадолго, и с моим делом что-то случится. Это ощущение возникло не на пустом месте.
Например, летом 1962 года взял отпуск и уехал в Латвию. Вдруг вечером позвонил Флеров: немедленно возвращайтесь — очередной заговор начальства. Сел в машину и уже утром был в КБ. Но все равно опоздал. Операция была уже проведена: мой Девятый отдел разделили на три части. Два отдела оставили на территории бывшего КБ Грабина, расположенного по другую (от основной территории КБ) сторону железной дороги, а корабельные проектанты вместе со мной направлялись в главный корпус на основной территории, в проектный отдел, который до того занимался только ракетами. Королев разводил руками. Решение принято, оформлено приказом («согласовано наверху!»), и он ничего не может поделать.
Верить С.П. никак было нельзя: такие решения без него не проходили. Потом уже понял, что он заподозрил Бушуева в сепаратизме. Дело в том, что инженеры, работавшие над космическими аппаратами, почувствовали, что С.П. начинает (без специального умысла, конечно) задерживать работы: без него ни один вопрос, связанный с загрузкой завода и конструкторских отделов, решить было невозможно. Я бы сказал, что это сложилось вполне естественно: Королев объединял дело. Но он действительно был перегружен работами и по остальной тематике КБ, связанной с разработкой боевых ракет, хозяйственными и организационными делами. К нему просто трудно было пробиться. А тут в академии возникла мысль (у Келдыша, надо полагать, а может быть, у Петрова, будущего директора Института космических исследований) о том, что нужно создать организацию, в которой бы сотрудничали и разработчики космических исследовательских приборов, телескопов и т. п., и инженеры, разрабатывавшие космические аппараты и корабли, электрические схемы и приборы, то есть объединить их с филиалом королёвского КБ, расположенном на территории бывшего КБ Грабина, с его заводом, подчинявшимся Бушуеву.
Читать дальше