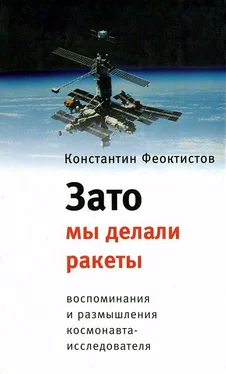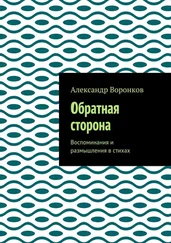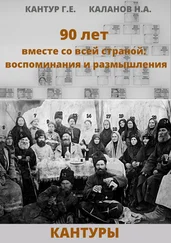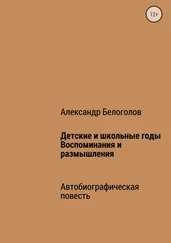Отчет подписали четыре инженера: Королев, Бушуев, Тихонравов и я. Но в его подготовке принимала участие довольно большая группа инженеров, в основном молодых: К. С. Шустин, В. Е. Любинский, Б. Г. Супрун, П. В. Флеров и многие другие. При подготовке отчета использовался имевшийся в нашем конструкторском бюро опыт по расчетам, проектированию, измерениям, а также опыт и данные других организаций, работавших в области ракетной техники и авиации.
Не все в КБ соглашались с выводами, изложенными в отчете. Одни считали, что нам не удастся уложиться в массу, которую сможет вывести ракета-носитель, другие — что неправильно выбрана форма спускаемого аппарата, третьи сомневались в возможности обеспечить надежную тепловую защиту. Проблема веса обсуждалась особенно остро. Двухступенчатая ракета-носитель Р7, используемая для запуска первых спутников, могла обеспечить вывод на орбиту аппарата с массой около 1,3 тонны. В этот лимит мы, с нашими техническими решениями по кораблю, никак уложиться не могли. И уже тогда, в 1958 году, начались работы по выбору основных проектных параметров третьей ступени для этой ракеты.
Оценки показали, что ракета-носитель с третьей ступенью, с установленным на ней сравнительно небольшим двигателем, сможет вывести на орбиту массу около 4,5 тонн. Эта же трехступенчатая ракета смогла бы выводить на траекторию полета к Луне аппарат с массой около 300 килограммов. Было принято решение о начале работ по третьей ступени, а мы стали ориентироваться на массу 4,5 тонны для нашего корабля, что не так уж и мало, но и не много, если учесть, что предстояло разработать принципиально новую машину. Никаких аналогов у нас не было. К тому же мы не могли ждать новых разработок для значительной части оборудования корабля и вынуждены были, как правило, брать то подходящее, что имелось в наличии, исходя из его функций и параметров. Практически это означало, что мы вынуждены были брать по два комплекта каждого прибора. Потом это стало традицией, вернее, даже законом: «Все должно быть зарезервировано!» Это, конечно, приводило к обострению проблемы веса, но ради справедливости надо признать, что весовая проблема оставалась острой на всех наших машинах. Проектанты ракеты всё понимали и относились к нам в этом вопросе весьма скептически, а потому при разработке носителя создавали (втайне от нас) небольшие резервы массы, которые нам отдавали в критический момент.
Трудности возникали на каждом шагу. Специалисты по аэродинамике и тепловому нагреву подвергли наш шарик резкой критике. Раньше они доказывали, что это не самая оптимальная форма и предлагали взять конус. Теперь стали доказывать Королеву и Бушуеву (и не без успеха), что мы ошиблись в расчете толщины теплозащитного покрытия. По нашим, как мы считали, завышенным расчетам (и мы оказались правы — это подтвердили первые же полеты кораблей), толщина тепловой защиты в лобовой части должна была составлять 50 миллиметров. Они же доказывали, что ее нужно увеличить вчетверо! На увеличение расчетной толщины в два раза (для запаса — все-таки у нас не было никаких натурных экспериментов) мы и сами были готовы пойти. Но чтоб вчетверо! Однако Королев и Бушуев встали на сторону наших оппонентов, и нам пришлось ввести в проект удвоение толщины тепловой защиты (временно!). Потом мы все равно эти лишние 100 миллиметров «срезали». Не раз бывало, что если Королев в споре переходил на сторону наших противников, мы тут же оказывались даже не в меньшинстве, а в одиночестве. И дело не в авторитете Королева, а в человеческой природе, во внутренней неуверенности в себе коллег по работе.
После многократных обсуждений в ноябре 1958 года проект был представлен на совет главных конструкторов. Совет должен был принять решение о выборе основного направления работ в космической технике на ближайшие годы. Были представлены три доклада: Рязанова об автоматическом спутнике-разведчике, Белоусова об аппарате для полета человека по баллистической траектории и мой — о пилотируемом спутнике Земли.
Надо сказать, лозунг «Для Родины важнее спутник-разведчик!» на многих действовал безотказно. И не потому, что он был для всех так уж убедителен, а потому, что с ним опасно было бороться. Здесь для нашего дела крылась явная опасность. Надо было как-то нейтрализовать конкурентов. И еще в августе мне пришлось пойти на тактический маневр: «Хотя работы над разведчиком и начались раньше, но мы-то продвинулись гораздо дальше. Давайте сначала сделаем пилотируемый спутник, а потом на базе его конструкции и бортовых систем Рязанов с его сектором сделают проект автоматического спутника-разведчика, но не с маленькой капсулой для возвращения фотопленки, а с большим спускаемым аппаратом, где будут размещаться и фотопленки, и фотоаппараты. Конструкция будет проще и надежнее». Такая постановка вопроса перед начальством позволила нам отбиться от «защитников государственных интересов», а Королеву твердо встать на нашу сторону: создавая корабль для полета человека, мы убиваем сразу двух зайцев! А для любого начальства одним выстрелом убить двух зайцев — самое милое дело, мечта, можно сказать!
Читать дальше