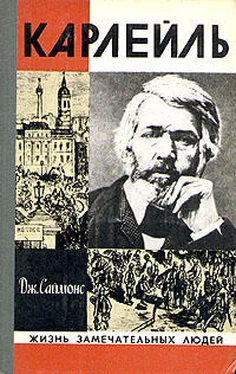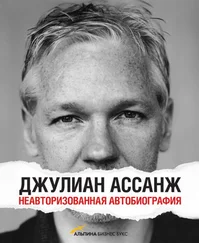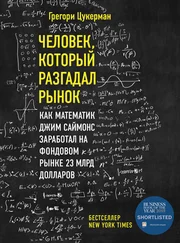Многие суждения и мысли Карлейля буржуазной историографией эксплуатировались именно потому, что их удавалось вначале упростить или просто исказить. И это относится больше всего к карлейлевскому понятию героя. Отметим в этой связи, что герой, по Карлейлю, – это прежде всего человек высшей нравственности, обладающий исключительной «искренностью», «оригинальностью» и «деятельностью». Придавая труду высшее, почти религиозное значение. Карлейль видит в подлинном герое человека постоянно трудящегося и деятельного. (Еще раньше в книге «Sartor Resartus» Карлейль говорил о «бессмысленности этого невозможного предписания „познай самого себя“, если только не переводить его в другое предписание, до некоторой степени возможное: „познай, что ты можешь сделать“. ) Чрезвычайно важна также искренность. („Кто высказывает то, что подлинно в нем заключается, – писал Карлейль в книге „Прошлое и настоящее“, – тот всегда найдет людей, чтобы слушать его, несмотря ни на какие затруднения“. ) Карлейль недвусмысленно говорит об общенациональном, народном значении подлинного героя, гения. „Великое дело для народа – обладать явственным голосом, обладать человеком, который мелодичным языком высказывает то, что чувствует народ в своем сердце. Италия, например, бедная Италия, лежит раздробленная на части, рассеянная; нет такого документа или договора, в котором она фигурировала бы как нечто иное; и однако благородная Италия – на самом деле единая Италия: она породила своего Данте, она может говорить!.. Народ, у которого есть Данте, объединен лучше и крепче, чем многие другие безгласные народы, хотя бы они и жили во внешнем политическом единстве“.
В карлейлевской концепции героя в том виде, в каком она была разъяснена им в его лекциях, «нравственное», «духовное» и «деятельное» начала нерасторжимы. Это следует помнить, учитывая снижение понятия о герое и героическом, его практическую девальвацию в более поздних произведениях самого Карлейля.
Помимо пророков, вождей и «духовных пастырей», Карлейль причислил к сонму героев писателей и поэтов.
В принципе идея эта не была нова. Взгляд Карлейля на миссию поэта существенно совпадал с высказываниями Фихте (Карлейль и сам говорит об этом). Английские романтики за 30 лет до Карлейля писали «об исключительной восприимчивости поэта», его особой «подверженности чувству» (в предисловии к «Лирическим балладам», 1800). Но Карлейль поставил поэта, художника рядом с пророками ц героями. Важным было также утверждение героической миссии писателя, не только поэта – уточнение, но видимости, незначительное, однако на самом деле существенный сдвиг в сторону от романтической позиции. Героизация писательской деятельности, высшей духовной миссии писателя производилась в противовес буржуазно-потребительскому взгляду на искусство, но в основе ее лежал идеалистический взгляд на искусство.
Альфа и омега героизма, по Карлейлю, способность героя «сквозь внешность вещей проникать в их суть», «видеть в каждом предмете его божественную красоту, видеть, насколько каждый предмет представляет поистине окно, через которое мы можем заглянуть в бесконечность». Назначение героя и состоит в том, чтобы «сделать истину более понятной для обычных людей». Отметим, что разграничение герои – негерои производится здесь не по социальному, а по духовному признаку. В этом смысле позиция позднего Карлейля, причислившего к героям «деятельного буржуа», была более социально-конкретна и более реакционна.
* * *
Список замечательных людей, с которыми на протяжении почти 70 лет общался Карлейль, включает десятки имен.
Книга богато населена современниками Карлейля, теми, с кем связан он был идейно, по литературным делам и чисто дружески. Прежде всего это Диккенс, Гете, «американский Карлейль» – Эмерсон и многие другие хрестоматийно известные лица. В книге нет Герцена, но есть люди его круга – Маццини, Джон Стюарт Милль.
Среди разнообразных влияний и веяний, сказавшихся на центральном произведении Герцена «Былое и думы», Томас Карлейль сыграл особую роль. В годы, когда окончательно складывается замысел «Былого и дум», знакомство с Карлейлем, автором работ, свободно сочетающих историю, философию и беллетристику, научное изложение с поэтическим жаром, оказалось своевременным. Занимавшие Герцена еще в 30-е годы поиски особой формы, соответствующие складу его творческой личности, вылились у него тогда же в мучащий его вопрос: «Можно ли в форме повести перемешать науку, карикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм?» В ранних литературных опытах Герцена еще ощущалась изначальная разнородность элементов, целостность формы была найдена только в «Былом и думах».
Читать дальше