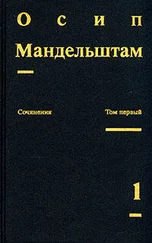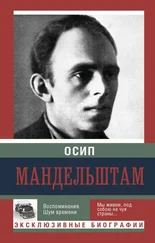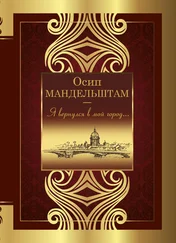Последнее стихотворение Мандельштам заканчивал в 1934 году, уже зная о смерти Андрея Белого. «Очаг лазури» и сама тема непрочности, «мгновенности» жизни и посмертного триумфа перекликаются, очевидно, со стихами о Белом.
Итак, в январе умер Андрей Белый. О следующем месяце пишет Ахматова в «Листках из дневника»: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”. Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места» [573] . Это воспоминание – одно из подтверждений того высказывания, которое мы находим в уже цитировавшемся письме Мандельштама к Ахматовой (август 1928 года), – «Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется»: замечено, что Мандельштам процитировал одно из произведений Н.С. Гумилева – драматическую поэму «Гондла», где эти слова выражают готовность героя к самопожертвованию. Говоря о себе и о своей смерти, Мандельштам думал, видимо, и о благородном, прямом пути Гумилева.
В квартире на улице Фурманова в мае 1934 года Осип Мандельштам был арестован. Случилось то, к чему все шло, то, что должно было случиться. И Н.Я. Мандельштам, и А.А. Ахматова, которая, по ее словам, «в этот самый день» приехала из Ленинграда, указывают следующую дату ареста: ночь с 13 на 14 мая. Однако опубликованные В.А. Шенталинским еще в 1991 году архивные материалы дают другие данные: ночь с 16 на 17 мая 1934 года (Огонек. 1991. № 1.) Ахматова также сообщает, что ордер на арест подписал Г. Ягода. Но это не так. Ордер подписал 16 мая заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов. Его подпись на ордере начинается большой буквой «Я» – естественно, ее можно было принять за подпись Ягоды. (Сам Я.С. Агранов будет уничтожен в тот же год, что и Мандельштам, – в 1938-м. Машина террора перемалывала, как известно, и своих служителей.) Номер квартиры в ордере указан неверно: 16 вместо 26.
Фотография Мандельштама, сделанная при первом аресте
Всю ночь шел обыск. Анна Ахматова в «Листках из дневника»: «Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. <���…> Следователь при мне нашел “Волка” [574] и показал О.Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня». Искали стихи, ходили по выброшенным на пол из сундука рукописям. Стены в доме, как писал Мандельштам в «Квартире…», были «халтурные». Из соседней квартиры в другом подъезде – там жил поэт С. Кирсанов – доносились звуки гавайской гитары. «Его увели в семь утра. Было совсем светло», – вспоминала Ахматова [575] . Изъяты были сорок восемь листов рукописей.
На следующий день был повторный обыск. До него Надежда Яковлевна, ее брат Е.Я. Хазин, Ахматова и Эмма Герштейн успевают вынести из дома часть незахваченных, несмотря на ночной обыск, рукописей Мандельштама, а также рукописи поэта Владимира Пяста, находившиеся у Мандельштамов. «Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому – кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива»; «из рукописей О.М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома», – пишет Н. Мандельштам [576] .
«14 мая утром я пришла в Нащокинский. Мне открыла Анна Андреевна со слезами на глазах и с распущенными волосами (тогда еще черными) – у нее сделалась сильнейшая мигрень, чего, по ее словам, с ней никогда не бывало. Я узнала все», – вспоминает Эмма Герштейн (как видим, и в ее мемуарах указана иная, противоречащая указанной в ордере на арест, дата задержания Мандельштама) [577] .
В.Н. Гыдов и П.М. Нерлер в своей хронике последних лет жизни поэта сообщают:
«Утром Н.Я. Мандельштам идет к своему брату Е.Я. Хазину, А.А. Ахматова – к старым друзьям. Встретившись в условленном месте, Н.Я. Мандельштам с братом и А.А. Ахматовой возвращаются домой.
Второй обыск.
Н.Я. Мандельштам сообщает об аресте Н.И. Бухарину.
А.А. Ахматова идет к Б.Л. Пастернаку и к секретарю Президиума ЦИК СССР А.С. Енукидзе.
Б.Л. Пастернак, узнав об аресте, идет к Демьяну Бедному, а вечером, в антракте спектакля “Египетские ночи” Камерного театра, заходит в “Известия” [578] к Н.И. Бухарину; не застав его, оставляет записку с просьбой сделать для Мандельштама все, что можно» [579] .
На Лубянке Мандельштам испытывает психический шок. Он считался с тем, что за стихи о Сталине его могут расстрелять – поэт говорил об этом Эмме Герштейн. Теперь же, в заключении, он, видимо, ждал смертной казни. Но одно дело – представлять себе расстрел, будучи на воле, другое – оказаться в реальной тюремной обстановке во всей ее гнетущей подлинности. Мандельштам решает покончить с собой. С примитивной точки зрения это кажется нелогичным: какая разница – расстрел или самоубийство? Но разница, естественно, есть: расстрел – акция власти, «отвратительной, как руки брадобрея», которые бесцеремонно крутят твою голову, поворачивают ее, куда им, рукам власти, надо, держа при этом смертоносную сталь у твоего горла; самоубийство же – проявление человеческой свободы. Бритвенным лезвием, заранее приготовленным и спрятанным в обувных подошвах, Мандельштам вскрывает себе вены. Попытка самоубийства (совершена в период с 18 по 28 мая) не удается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу