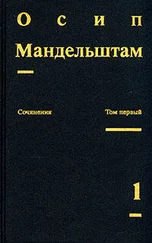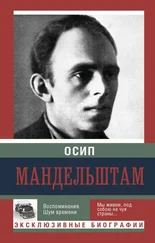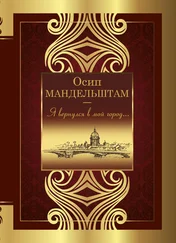Мандельштам, написав стихи, не мог их не читать. Б.С. Кузин, рассказав, как Мандельштам пришел к нему и прочел стихи о Сталине и как он (Кузин) «в полном смысле умолял» его не читать это стихотворение больше никому (причем поэт дал ему слово), продолжает: «Буквально дня через два или три Осип Эмильевич со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: “Читал стихи (было понятно какие) Борису Леонидовичу”. У меня оборвалось сердце. Конечно, Б.Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О.Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное – мне стало ясно, что за эти несколько дней О.Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно» [529] .
Воспоминания М.А. Таловой, вдовы поэта М.В. Талова, сохранили рассказ Нины Леонтьевны Манухиной: «В 1963 году в день семидесятипятилетия Александра Павловича Квятковского [530] мы были у него в гостях. <���…> Много говорили о Мандельштаме, об истории ареста и гибели поэта. Нина Леонтьевна рассказала, как не раз, бывая у них, Мандельштам читал эпиграмму на Сталина какому-нибудь новому знакомому. Уводил его на “черную” лестницу и там читал. Манухина просила: “Ося, не надо!” Но удержать его было невозможно» [531] . (Н.Л. Манухина – поэтесса, вдова поэта Г.А. Шенгели.)
Атмосферу жизни в квартире на улице Фурманова Анна Ахматова позднее, в «Листках из дневника», со свойственной ей точностью и краткостью формулировок, определила так: «Несмотря на то что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме» [532] .
Ко вполне понятной радости в связи с обретением собственного жилья у Мандельштама примешивались другие чувства. О квартире в Нащокинском Мандельштам как-то сказал: «Эта квартира как гроб. Отсюда только на Ваганьково». Ему неловко было быть обладателем квартиры в писательском доме. Он чувствовал себя пойманным, «окольцованным», прирученным (как он позднее напишет в 1937 году, в Воронеже: «Я около Кольцова / Как сокол закольцован…»), попавшим в число разрешенных, «пайковых» советских писателей – они получают «паек» от государства, и их книги выходят как одобренный государством «паек» читателям. Он чувствовал себя вляпавшимся в ту санкционированную властью литературу, которую сам недавно проклял в «Четвертой прозе».
Б.Л. Пастернак
Нужен был лишь внешний раздражитель, чтобы это настроение выразилось в стихах. И такой повод явился. Однажды к Мандельштамам на улицу Фурманова пришел Б.Л. Пастернак – посмотреть, как они устроились. Н. Мандельштам вспоминала о том, какую реакцию вызвали доброжелательные слова Бориса Леонидовича: «“Ну, вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи”,– сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” – О.М. был в ярости… Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства – неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, – которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно – благополучие не может служить стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благополучия, против него он бы не возражал… Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и дачки… Слова Бориса Леонидовича попали в цель – О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям…
Проклятие квартире – не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали – ни дач, ни квартир, ни денег…» [533]
В словах Пастернака, вполне естественных, добросердечных и по-житейски понятных, Мандельштаму послышалось, вероятно, пожелание примириться с действительностью. Мандельштам очень высоко ценил Пастернака-поэта, на этот счет имеется не одно высказывание; поздравляя Пастернака с Новым годом, Мандельштам напишет ему из Воронежа:
«Дорогой Борис Леонидович.
Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват – для благодарности не найдешь слов.
Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям…» (письмо от 2 января 1937 года).
Но Мандельштаму не была близка некая, как ему это виделось, уравновешенность Пастернака, «отрешенность» от жгучих и кричащих фактов жизни, некое всепонимающее гётеанство, «принятие» действительности. В записной книжке Мандельштама этот аспект отношения к Пастернаку выражен так: «Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно» (записи дневникового характера).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу